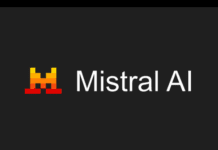Онлайн-платформы, возникшие во второй половине нулевых годов как сервисы для общения, к настоящему времени трансформировались в медийные компании, владеющие онлайн-средой распространения новостей и иной информации, которую прежде читателям, зрителям и радиослушателям доставляли исключительно СМИ.
В отличие от традиционных СМИ онлайн-платформы (такие, как Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, «ВКонтакте» и др.), во-первых, глобальны, они работают «поверх» всех национальных юрисдикций, за исключением одной – как правило, американской.
Во-вторых, даже в юрисдикции тех стран, включая США, где глобальные IT-компании зарегистрированы, онлайн-платформы плохо поддаются государственному регулированию на рынке медиа. Регулятор вынужден действовать на основании доцифровых законов, а они неэффективны. Так, обращение регулятора в суд по поводу каждого нарушения (диффамация, детская порнография, проявления ненависти) невозможно, нужны более общие методы воздействия на соцсети.
В чужих юрисдикциях дело обстоит ещё хуже: глобальные компании могут защищаться от местных регуляторов «корпоративной вуалью» и применять собственные правила модерирования контента, игнорируя национальные традиции и даже законы.
В-третьих, этические нормы и «производственные» принципы (обязательность ссылки на источник, указание даты события, правила вроде «нельзя публиковать изображения трупов и сцен насилия» и т.п.), общепринятые в индустрии СМИ, не действуют в социальных сетях. В сочетании с невысоким средним уровнем медийной грамотности аудитории это позволяет злонамеренно манипулировать общественным мнением.
Опыт США и Европы
В США юридическая коллизия развернулась вокруг статьи 230 закона об этике в сфере коммуникаций, который защищает компании, владеющие соцсетями, от ответственности за контент, размещённый пользователями.
Статья 230 освобождает онлайн-платформы от ответственности за публикацию контента третьих лиц, она даёт возможность онлайн-платформам самостоятельно устанавливать требования к публикуемому контенту, исходя из понимания ценности свободы слова и свободной дискуссии по общественно значимым вопросам, ограничивая оскорбительные высказывания и другие формы противоправного контента.
Это не работает. Президент США Дональд Трамп, публикации которого неоднократно блокировались онлайн-платформами, в мае 2020 года подписал исполнительный указ «О предотвращении онлайн-цензуры», регулирующий ответственность онлайн-платформ за распространяемую информацию.
«Мы не можем позволить ограниченному количеству онлайн-платформ вручную выбирать мнения, к которым американцы могут получить доступ, и размещать в Интернете. Эта практика принципиально неамериканская и антидемократическая. Когда крупные влиятельные компании подвергают цензуре мнения в социальных сетях, с которыми они не согласны, это опасная сила. Они перестают функционировать как пассивные доски объявлений, и их следует рассматривать как создателей контента», – сказано в указе.
Указ Трампа, однако, в качестве конкретной меры содержит только поручение генеральному прокурору создать рабочую группу по вопросам применения положений закона об этике в сфере коммуникаций. Непосредственного влияния на онлайн-платформы он не оказал.
У глобальных социальных сетей нет и не может быть универсальных критериев для того, чтобы определить, допустим ли контент к публикации в данной стране. Такие критерии зависят от социальной среды, в которой находится пользователь. Например, в Армении недопустимо отрицать османский геноцид 1915 года, а в Турции – выдающуюся роль Кемаля Ататюрка в истории.
Страны, чьё медиапространство de facto зависит от Facebook, Twitter, YouTube и других социальных онлайн-платформ, пытаются решить проблему не только юридическими, но и техническими средствами. Так, Евросоюз пытается объединить усилия полиции стран-участниц для блокировки контента, распространяемого в соцсетях террористами.
Главы европейских МВД в ноябре поддержали разработку нового закона Европейского союза о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который должен, в частности, усилить ответственность онлайн-платформ за распространение противоправного контента и заодно запретить крупнейшим технологическим компаниям создавать преференции для аффилированных с ними онлайн-сервисов.
Необходимость самоцензуры для онлайн-платформ
Европейский подход предполагает готовность соцсетей к сотрудничеству с государствами. Онлайн-платформы должны вести тщательный мониторинг контента и удалять «сообщения террористического и другого радикального характера» сразу после их обнаружения, не дожидаясь судебного решения, сказано в совместном заявлении глав МВД. Онлайн-пропаганду ненависти в Интернете предложено криминализовать.
В случае несоблюдения готовящегося закона ЕС о цифровых услугах соцсети ждут традиционно высокие европейские штрафы.
В связи с европейским законом о цифровых услугах онлайн-платформы через отраслевую ассоциацию European Digital Media Association (EDiMA) обратились к властям ЕС с просьбой разрешить самостоятельно следить за подавлением противоправного контента – т.е. изъявили готовность к самоцензуре.
Со стороны регуляторов ЕС, вероятно, было бы конструктивным ясно определить для глобальных медиаплатформ (Facebook, Twitter, YouTube и пр.) такие критерии – не универсальные, но обязательные к использованию в Европе. Это представляется условием эффективности механизма самоцензуры, разрешения на которую просит EdiMA.
В России
Защита граждан РФ от детской порнографии, пропаганды суицида, онлайн-торговли наркотиками, вербовщиков террористических организаций и иного запрещённого контента к настоящему времени стала неотложным делом.
По данным Роскомнадзора, в 2019 году выявлено 119 тысяч случаев недопустимых публикаций в социальных сетях. В 2020 году, который ещё не кончился, зафиксировано 111 тысяч таких случаев. В действительности их ещё больше.
Регулятор в РФ работает с администрациями социальных сетей, но эта работа регламентируется доцифровым законодательством. Как и в ЕС, социальным сетям для эффективной самоцензуры, а регулятору для овладения ситуацией в цифровом медиапространств необходимы 1) правила идентификации недопустимого контента и 2) средства обмена сведениями об инцидентах, информирования о них администрации онлайн-платформ. Обеспечить это может, очевидно, специальный закон РФ, разработанный с теми же целями, что и европейский Digital Services Act.
Прецедент введения институциональной самоцензуры для социальных сетей в России, напомним, имел место в ноябре 2018 года, когда с участием правообладателей, онлайн-платформ и регулятора был подписан «Меморандум о сотрудничестве по борьбе с пиратством в Интернете».