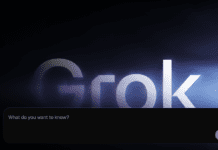В 2016 году на конференции по искусственному интеллекту (ИИ) в Барселоне мы с Константином Воронцовым из МФТИ «играли в лейтенанта Флерова», который написал с фронта Сталину письмо о том, что в открытой печати исчезли зарубежные публикации по ядерной физике. Это, по мнению физика, свидетельствовало о практическом интересе к указанному вопросу. С этого письма началось движение страны в направлении создания ядерного оружия. Мы считали, что нечто подобное должно произойти у нас применительно к развитию ИИ.
Правильные идеи витают в воздухе, и за прошедшие пять лет страна сделала большой шаг вперед в указанном направлении. Однако наши конкуренты не стоят на месте, и надо идти ещё дальше вперед.
1. По моему мнению, главным в вопросе сохранения ИИ-талантов, или, говоря шире, IT-талантов, является моя просьба к сильным мира сего о том, что с молодёжью, особенно талантливой, надо быть деликатными. В 2018 году в блогах Университета ИТМО я опубликовал текст моего выступления в администрации президента РФ: «Будьте более деликатными с нашими молодыми талантами»: выступление Анатолия Шалыто перед советником президента по вопросам развития Интернета». Все течёт, все меняется – сегодня из названия надо было бы убрать слово «более».
2. Программисты привыкли устранять баги в программах, особенно если они эти программы написали сами. Талантливые молодые люди далеко не все ботаники, и поэтому ждут такого же и в общественной жизни. Людям свойственно ошибаться, но на то они и Люди, чтобы исправлять ошибки, когда это становится очевидным. Если так не делать, это, к сожалению, станет видно многим, а не только привыкшим устранять баги программистам.
3. Отношение к талантам. На всех уровнях, когда человек увольняется или уезжает, я слышу примерно такие слова: ну что поделать? А я знаю, что: бороться за каждого, что начинается с длительного разговора по душам. Но это не всегда просто потому, что не у всех есть душа, а если она есть, то не каждого к ней допускают.
Иногда в этой борьбе удаётся побеждать, так как причины ухода могут такими, что с ними можно легко справиться, не теряя кадры. Приведу пример. Один молодой человек применял некоторое IT-средство, собирался в аспирантуру, а потом вдруг надумал увольняться, и более того, уезжать. В ходе длительного моего разговора с ним оказалось, что он всего-то хочет такое средство разрабатывать, а не использовать. Так как это ему по силам, и такое направление работ не противоречит нашим научным интересам, то я переговорил с его начальником, и проблема была решена, это при том, что начальник и не он один до этого разговаривали молодым человеком… Видимо, разговаривали не по душам. Как оказывается, борьба за сохранение талантов требует специального таланта, и это надо знать и понимать.
Вот что написал по этому поводу Рид Хоффман (Reid Hoffman), основатель Linkedin: «За таланты надо бороться! Ищи талант, как будто твоя жизнь от этого зависит» (Recruit like your life depends upon it, because it does). Мне практически не известны люди, которые так думают…
4. После философских рассуждений о сохранении талантов – свидетельство из Кремниевой долины: «Все мы постоянно слышим слова различных руководителей про важность кадров и знаем, что в массе своей это просто лозунги. Вы совершенно отчётливо это понимаете, когда попадаете в мир Google, Facebook или Netflix. Для них сотрудник – это бог. Бог! …Клиенты не так важны: один ушёл, другой пришёл, а ценный сотрудник ушёл – где еще такого взять?». Естественно, что в наших условиях я стараюсь создать только мыслимые условия: и главное из них – обеспечение возможности заниматься, чем хочет заниматься человек в компании симпатичных ему людей, равных ему по интеллекту.
5. От гуманитарных вопросов перейдем к подготовке кадров по ИИ. Обратимся сначала к школам. «К ноябрю 2019 года в рамках национального проекта «Образование» открыто 2049 центров «Точка роста» в 50 регионах нашей страны. Через год таких «точек» было уже более пяти тысяч, а к 2024 года их будет 16 тысяч» (Ольга Васильева, бывший министр). «Точки роста» – специально оборудованных классы в школах по всей стране, которые оснащаются 3D-принтерами, мощными компьютерами, квадрокоптерами, очками виртуальной реальности, тренажёрами-манекенами и т. п. Но сегодня главная беда не в том, что для подъёма образования современных лабораторий недостаточно. Для их работы нет кадров. В школах не хватает учителей, а в селах и малых городах их не хватает катастрофически. Кто будет учить в этих «точках роста», сможет использовать их оборудование по назначению, поддерживать его работоспособность? Без ответа на эти вопросы «точки» всеми силами будут беречь от детей».
6. Руководство Москвы установило победителя и призерам Всероссийских олимпиад достаточно большие денежные премии, что само по себе классно, но приводит к вымыванию талантливых детей из провинции в столицу. Что мешает такие же премии выплачивать также и Министерству просвещения РФ, чтобы соответствующие категории школьников могли получать их, продолжая учиться в регионах, в которых они смогли подготовиться так, что отличились на Всероссийских олимпиадах?
7. Теперь о вузах. Как готовить? Почему-то сейчас считается, что если человек знает язык программирования Python, то его путь в ИИ открыт. Сегодня для вузов характерна тенденция к упрощению обучения, что поддерживается и обучающимися, и преподавателями, и работодателями. Первым сложно учиться, да они и не считают, что это необходимо, так как скоро будут хантить даже школьников, что иногда бывает и сейчас, так как законодательство это не запрещает. Если не одно поколение подсмеивалось над словами Митрофанушки из «Недоросля» (1782) Фонвизина: «Час моей воли пришёл: не хочу учиться, хочу жениться», то теперь эти слова транcформировались так: «Час моей воли пришёл: не хочу учиться, хочу работать», и это уже не смешно! Хорошо, что не все хотелки митрофанушек выполнимы – например, в отличие от программирования, во врачи их никто не возьмёт.
8. Даже самые лучшие преподаватели считают, что так как время и учебные программы не безразмерны, то многие не-программистские предметы следует заменить программистскими. При этом с «корабля истории» сметаются, например, такие предметы, как функциональный анализ и физика, а вместо них появляется пресловутый Python. Работодателям всё это очень нравится, ведь они из вузов ждут пополнения «народного ополчения», а не «спецназа». В результате, когда приходишь в научно-исследовательский отдел «крутой» организации, в котором работают 50-летние, закончившие престижные вузы, то они знают многое, если не сказать всё, чего нельзя сказать об отделах, состоящих из 25-30-летних ребят, которых я ласково называю «питонами», несмотря на то, что они тоже заканчивали те же вузы – но существенно позже.
9. Какое образование должны иметь специалисты по ИИ? По моему мнению, примерно такое же, как и отцы-основатели ИИ в СССР, такие, как например, А.С. Кронрод, А.Л. Брудно, Г.М. Адельсон-Вельский и М.В. Донской, которые были настолько математиками, что среди оппонентов на защите докторской диссертации Кронрода, например, были А.Н. Колмогоров и М.В. Келдыш. Потом они участвовали в создании современного программирования и алгоритмов дискретной математики.
Из воспоминаний М.В. Донского: «У нас сначала убили развитие элементной базы, потом производство крупных систем, а затем добрались и до образования. Гениального педагога, моего учителя Александра Семеновича Кронрода не пустили преподавать в университет. Вспоминаю забавную историю. Он в своё время читал лекции по программированию в московском математическом обществе и говорил, что тех своих слушателей, кто не научится после этого программировать, будет считать мебелью. На вопрос академика Соболева из зала «А академиков?» Александр Семёнович ответил: «Буду считать мебелью из красного дерева». Адельсону-Вельскому, именем которого названа кафедра в университет Ватерлоо (близ Торонто), дали преподавать в МГУ – всего год. Мне повезло у него учиться. Сегодняшние студенты надёжно защищены от таких людей. В России нет больше традиции семинаров для специалистов – то, что есть, кстати, в Кремниевой долине. Все знают, что в такое-то время там-то с участием ведущих людей будут обсуждаться профессиональные вопросы. Кто хочет садится за руль и едет на мероприятие. И собираются на эти мероприятия лучшие люди Долины. Это же для молодёжи в первую очередь важно, а у нас разными способами дееспособных людей из образования вынимают». Это Михаил Владимирович говорил в конце 2004 г. С тех пор в рассмотренном им вопросе лучше не стало.
10. Кого и как надо учить? Вот легенда рассказанная Андреем Иващенко, выпускником МФТИ, членом попечительского совета кластера «Физтех XXI» о том, как создавался МФТИ: «В Америке взорвали атомную бомбу, и Сталин понял, что физика – это не наука, а род войск. До этого в МГУ были физфак и мехмат, но там главным была наука, а нужно было готовить людей, которые могли бы очень быстро внедрять результаты фундаментальных исследований и делать изделия, которые на конкурентный рынок доставляются по баллистической траектории, а ещё сделать так, чтобы оттуда ничего не прилетало. В 1946 году организовали Физтех. При этом взяли программы указанных выше факультетов МГУ и уплотнили в два раза – вместо шести лет решили учить три года. Обучающиеся получали сверхнагрузки, и те, кто выживали, шли в систему «мастер-подмастерье» и учились тому, чем занимался мастер.
Система оказалась инвариантной даже к строю в стране. Физтехам все равно где и в какой области решать нерешаемые задачи. Им за три первых года так ломают голову, что им кажется, что уже всё самое сложное, что есть в мире, они уже изучили, а про остальное – книжки почитают и разберутся». Обучавшиеся на кафедре «Компьютерные технологии» Университета ИТМО в период её становления думали так же.
У выпускников МФТИ нет страха браться за новое, и поэтому из-за невостребованности физики в настоящее время многие из них стали успешными предпринимателями. При этом надо отметить, что у физтехов уникальные успехи в бизнесе (в одном из последних российских списков Forbes двенадцать физтехов, которые добились успеха из самых различных областях), и это при том, что их не учили ни экономике, ни предпринимательству, ни другим социальным наукам.
И ещё. Ходит легенда что, когда новому ректору МФТИ Дмитрию Ливанову предложили ввести или расширить преподавание Soft Skills, он ответил: «Какие Soft Skills, если у нас Физтех!»
Это вам модные ныне не шестимесячные курсы. Учить надо сложному и очень сильных, при этом учебные курсы должны быть «мозгодробительными». Как как-то сказала писательница Татьяна Толстая: если Вам легко учиться, то либо Вы гений, либо Вас ничему не учат.
«Так сложилось, что люди, освоившие самые разные профессии, даже весьма далекие от математики, неоднократно отмечали, что изучение математики шло им на пользу – они считали, что она развивала им мозги, а не просто чему-то научило. Можно ли отказаться от большей части школьной математики сейчас? Да, безусловно. Но тогда встанет вопрос, а чем её заменить, чтобы замена тоже развивала мозги? Вы знаете ответ на этот вопрос? Я не знаю, никто не знает – потому что нет такого опыта в истории человечества, чтоб на протяжении нескольких поколений мозги развивались без математики. Человечество понимает, что вот есть работающий инструмент, а про остальные непонятно. Хотите рискнуть? Пожалуйста, но нужен эксперимент на несколько поколений. Однако, я хочу, чтобы мои дети-внуки при этом были не в экспериментальной, а в контрольной группе» (Константин Кноп).
11. Да что там говорить об МФТИ, если в 1916 году студенты медицинских факультетов сдавали 22 выпускных экзамена. «В 1944 году была утверждена «Инструкция о проведении экзаменов на аттестат зрелости…». К этим экзаменам допускались «учащиеся, прошедшие курс средней школы, имеющие отличное поведение и годовые оценки в десятом классе по каждому из основных предметов учебного плана не ниже «тройки», независимо от отметок по пению, рисованию, черчению и военно‑физической подготовке». Выпускникам надо было сдавать экзамены по семи (девяти) предметам: 1. Русский язык; 2. Литература; 3. Математика; 4. Физика; 5. Химия; 6. История; 7. Иностранный язык. Учащимся нерусских школ, кроме этого, надо было сдавать экзамен по родному языку и родной литературе. По русскому языку и литературе, а также по родному языку и литературе экзамены были объединенными. Однако их общее число было немереным, так как по математике надо было сдавать аж пять (!) экзаменов: два письменных (алгебра с арифметикой и геометрия с тригонометрией) и три устных (алгебра, геометрия, тригонометрия), а по истории – два (по истории СССР и новой истории)». Это было удовольствие ниже среднего, но я не знаю ни одного случая, чтобы кто-либо умер от этого – тот, кто не был предрасположен к этому «издевательству», на аттестат зрелости не претендовал… Я сдавал экзамены на аттестат зрелости в 1965 году – не помню сколько их было, но было много.
12. Даже если молодые люди собираются стать предпринимателями, не надо создавать у них иллюзии, что и здесь можно обойтись «шестимесячными курсами». Почитайте текст мой про Никиту Шамгунова и кое-что многим станет ясно и здесь. Нет, конечно, можно даже не учиться на курсах, как Стив Джобс и Билл Гейтс, но они гении, а таким гениальным предпринимателям, как Илон Маск и Джефф Безос хорошее образование не помешало. Почему Вы думаете, что оно помешает Вам?
13. Теперь о любимых многими индивидуальных образовательных траекториях. Приведу авторитетные мнения по этому вопросу.
13.1. Вот мнение выдающегося математика академика РАН, лауреата Филдсовской премии Сергея Петровича Новикова, сына также выдающегося математика Петра Сергеевича Новикова и крупного математика Людмилы Всеволодовны Келдыш, сестры еще одного выдающегося математика – президента Академии наук СССР Мстислава Всеволодовича Келдыша. Это мнение он изложил в статье «Произошел распад обязательного знания», в которой есть такие слова: «Причина упадка в математике в том, что изменился подход к обучению: к этой науке стали относиться как к гуманитарной. В математике Вы должны выучить определённый набор дисциплин, без которых в этой сфере невозможно работать в принципе. И тем не менее на Западе в какой-то момент пошли по пути подражания гуманитарным наукам – предоставили студентам самим выбирать те или иные курсы. Парадокс!
Гуманитарные науки в целом – это, так сказать, мелкое море: основная трудность – в масштабе. Это море знаний огромное, но ты можешь постигать его по частям, а в математике нужно сразу идти в глубину, здесь другое понятие сложности. Математика построена по принципу пирамиды, где предыдущие этажи являются основой для следующих. Так что упадок нынешнего уровня науки во многом объясняется тем, что произошёл распад обязательного знания.
Для того, чтобы стать математиком, нужно всерьёз много чего выучить, а нынешнее поколение это не устраивает: наука должна доставлять удовольствие, считают они. Это без сомнения: должна, но удовольствие не отменяет трудностей. Математику, как и теоретическую физику, учить трудно. Вот это современные молодые люди делать не хотят».
«Видимо, именно по этой причине американские профессора часто стараются брать в аспиранты молодых людей из ведущих российских университетов, так как их выпускники, например, обязательно изучали статистику, а в Америке многие её не брали, а она для научной работы часто требуется. Методически преподавание в лучших российских вузах существенно отличается от принятого в Америке, так как наше образование формирует у студентов единую математическую картину мира, а у них – лишь отдельные её фрагменты».
«Человек должен определить своё место в пространстве знаний. Это может позволить ему понять, какие зияющие пустоты он оставляет, выбирая для себя «интересное» (Анатолий Шперх). Похоже на автоматное управление – сначала надо определить, в какой точке пространства состояний процесс находится, и только потом, в зависимости от значений входов, действовать.
13.2. Теперь мнение ректора «Сколтеха» академика РАН Александра Петровича Кулешова: «При бесплатном образовании далеко не всегда удается внедрить технологии обучения, используемые в ведущих зарубежных вузах. Нам удалось привлечь в «Сколтех» очень квалифицированных специалистов с Запада. Мы решили выпускать по 100 человек в год, но в России своя специфика. Хотели быть маленькой копией MIT. Лучшие мировые практики собирались внедрять без изменения на нашей почве, но опыт показал, что это не так просто. Вскрылась одна забавная проблема. В США, в том числе в MIT, студент сам выбирает, чему ему учиться, из собственных соображений. Ту же систему перенесли на российскую почву, а она здесь работать не стала. Почему? На этот счёт есть теория. Годовой курс в MIT, одном из лучших вузов мира, стоит 50 тысяч долларов. Иногда их вносят родители студента, иногда футбольная команда, иногда сам MIT платит за обучение, но это всегда живые деньги, и у обучающегося этот факт прошит в мозгах. За него платят, и это его единственный шанс в жизни. Поэтому он рвёт знания «челюстями», а наши студенты учатся бесплатно, да ещё и получают стипендию. И предметы они выбирают какие попроще. Так что американскую систему обучения нам в России пришлось менять».
13.3. А теперь о выступлении топ-менеджера из компании JetBrains Андрея Иванова. Сначала он, как говорят сейчас многие молодые люди, «топил» за индивидуальные образовательные программ для студентов, а потом неожиданно сказал, что значительное их число может понять, чем они хотят заниматься, только после завершения обучения, да и то не всегда. Тогда как и что они могут выбирать в процессе обучения?
13.4. Известный отечественный филолог Михаил Леонович Гаспаров написал, что в 1926 году на факультете общественных наук университета изучали всё на свете, в том числе узбекский язык и артиллерию. С тех пор прогресс не останавливался ни на секунду, и вместо обязательных эти предметы могли стать… предметами по выбору в индивидуальных образовательных траекториях, что уже давно характерно для некоторых даже весьма престижных американских университетов. А вот мнение Гаспарова о подобном прогрессе: «В младших классах меня били, в старших не били, поэтому я и уверовал в прогресс».
14. При подготовке классных программистов у нас учат от общего к частному, а не наоборот, с изложением доказательств рассматриваемых положений и обучением проведения доказательств применительно к решению новых задач, что очень важно при обучении программированию. Вот, что по этому поводу говорит легендарный тренер команд по программированию Университета ИТМО, наш выпускник Андрей Станкевич: «Культура доказательств, возможно, и есть наш секрет подготовки классных IT-специалистов».
15. Огромная любовь к нейронным сетям, которые, бывает, классно работают, и «человек уже в некоторых областях сдал им свои позиции». При этом, однако, надо помнить, что никто не знает, как они работают. Здесь во многом имеет место ситуация, подготовленная отсутствием доказательств в процессе обучения, которая описана выше, так как если сети хорошо работают (в некоторых областях, возможно, пока), то какая разница, почему они так работают. Многие ссылаются на то, что и с человеческим мозгом такая же ситуация. Однако мозг создан не рукотворно, а я не могу себе представить ни одного рукотворно созданного объекта (самолёта, корабля, реактора, ракеты и т. д.), при неправильной работе которого нельзя было бы определить причину аварии, которую после этого гарантированно можно было бы устранить… Интересно, устроят ли родственников погибших и/или начальство ответы типа: «Так получилось…» или «Недоучили…». А ещё за сутки сеть можно обучить так, что мало не покажется.
Можно ещё долго обсуждать рассматриваемый вопрос, но здесь я пока останавливаюсь, тем более, что у меня на эту тему, по крайней мере, есть ещё один текст: «Почему они остаются».