Об авторе: Анатолий Шалыто, профессор, д.т.н., Университет ИТМО
Один мой хороший знакомый, выдающийся преподаватель, никогда не придавал значения тому, как написана пояснительная записка к домашнему заданию по программированию. Он быстро просматривал программу, приговаривая: «Понятно, понятно, понятно…» Если последним словом при её просмотре было «понятно», то задание считалась принятым. Если преподаватель обнаруживал фактическую ошибку в программе, возвращал студенту работу на доработку. Других причин для доработки не было.
Видимо, так же, не произнося слово «понятно», поступали и практически все другие преподаватели – вычитав текст диссертации одного нашего выпускника и сделав по тексту несколько сотен замечаний, я получил от него ответное письмо: «Спасибо за советы и рекомендации, стараюсь им следовать. Согласен с тем, что писать следует понятно и корректно – «по-русски». Но из-за отсутствия практики и правильной («поправляющей») обратной связи в течение 10 лет пребывания в университете (бакалавриат, магистратура, аспирантура), конечно, сложно составлять формулировки именно так, как предлагаете Вы, особенно делать это сходу. В этом вопросе во время обучения у нас было двустороннее «движение» к согласию: практически ни один преподаватель за все эти годы не обращал внимания на оформление работ, а если вдруг преподаватель обращал внимание на это, соискатель предлагал рассматривать работу по существу, с чем преподаватель обычно быстро соглашался!»
Мой опыт показывает, что приведение текста к «человеческому» виду напоминает «приведение выражения к виду, удобному для логарифмирования» – такой текст, во-первых, легко читается (так легко, как ел спагетти Чарли в фильмах Чаплина – раз: и они уже все целиком в Чарли, или, говоря другими словами, текст написан хорошо, если по крайней мере автору удаётся прочесть его от начала до конца без единой запинки), во-вторых, если он написан хорошо и логично, то скорее всего, и правильно, и в-третьих, текст в этом случае обычно резко улучшается по сути, чего многие не понимают. По моему мнению, это как в искусстве, где форма и содержание обычно неотделимы.
Приведу пример, подтверждающий сказанное. Книгу Стефена Клини «Введение в метаматематику» перевёл сын Сергея Есенина – Александр Сергеевич Есенин-Вольпин, а отредактировал Владимир Андреевич Успенский. Потом русский перевод перевели на английский, и Клини признал, что его книга значительно улучшилась.
Более 20 лет назад я написал: «Если время, потраченное на написание и чтение технического текста, константа, то львиная доля его должна быть затрачена писателем». Годы идут, и это надо каждый год повторять вновь и вновь, так как известно, что стареют только преподаватели, а студентам третьего курса всегда 20 лет. Поэтому их каждый год надо учить заново, а у меня для того, чтобы учить, как писать правильно, десятками, а то и сотнями, уже нет сил.
Других «героев» почему-то не находится. Много лет назад у меня появились два выдающихся ученика, на которых я «взвалил» этот труд. Они безропотно согласились, но при этом подтвердили свой ум – решили не мучить ни себя, ни студентов, и вместо учебы писанию по-человечески, которой занимался я, они решили проверять знания, причём в той области, в которой проверку можно было проводить автоматически.
Я в свое время всеми силами старался учить, а не просто преподавать, так как для того, чтобы учить, а тем более научить, требуется значительно больших усилий как от учителя, так и от ученика, по сравнению с преподаванием или просто с проверкой знаний, часто являющимися двусторонним отбытием «номера». Приведу пример. Для того, чтобы от двух студентов добиться такого результата в оформлении проекта, как мне удалось добиться здесь, я провёл три или четыре встречи с ними, потратив 12-15 часов. Прошло почти двадцать лет, и точных значений трудоёмкости я уже не помню, но зато хорошо заполнил слова одного из этих студентов о том, что он на этот проект потратил почти … 400 часов!
Недавно мне дали посмотреть диссертацию взрослого человека. Но диссертация не зеркало, чтобы в неё смотреть, поэтому я сразу стал её править, чтобы оппоненты могли читать её без отвращения.
После первой порции примерно в 60 замечаний соискатель от удивления и радости в письме ко мне практически взвыл. Я продолжил читать… Новая порция содержала 70 замечаний. Позвонил научный руководитель и сказал, что соискатель в восторге и спросил, что мне купить в качестве подарка.
Я сказал, что подарком является его диссертация, которая позволяет мне продолжить формирование аналога «Кунсткамеры», в которой Пётр I, в частности, хранил «родившихся уродов», найденных в ходе экспедиций. Я же собираю уродливо написанные и сказанные фрагменты квалификационных работ соискателей.
Руководитель этого аспиранта про мои этнографические изыскания ничего не понял, но меня поблагодарил. После этого ещё была сотня замечаний — и снова восторженное письмо соискателя. Интересно, чему он так радовался?
Недавно я десять дней подряд просидел на приёме бакалаврских и магистерских работ, и мне многие сочувствовали. На это я отвечал, что не надо меня жалеть, так как считаю, что нахожусь в этнографической экспедиции, где пополняю свою коллекцию уродцев, оформленную в виде двух текстов: «Универсальные советы защищающимся» и «Продолжение текста «Универсальные советы защищающимся» и комментарии к нему». У первого из них около трёх тысяч просмотров, а у второго их значительно меньше. Первый текст длинный, и так как тексты «ВКонтакте» имеют ограничение на размер, то пришлось его продолжать в виде нового текста. Если по Ленину «электрон так же неисчерпаем, как атом», то я утверждаю, что и электрон, и атом, и даже они вместе в подмётки не годятся техническим текстам обучающихся по неисчерпаемости неточностей, ошибок и глупости.
При этом могу обрадовать читателя, это явление далеко не только нашего «разлива». Мой знакомый профессор попросил написать что-то 180 итальянских студентов, и пришёл в ужас от того, как это было написано. Когда после этого он пристыдил студентов, сказав, что является иностранцем, а пишет значительно лучше их, двое из них принесли справки о том, что имеют право писать, как угодно, так как у них… дислексия, в которой нет ничего страшного, так как она была и у Наполеона, и есть у Маска. Говорят, что в некоторых американских школах выдают документ, эквивалентный нашему аттестату зрелости, на котором (не у всех, правда, учеников) стоит штамп – «Читать умеет». Если бы и наши студенты приносили такие справки или аттестаты без указанных штампов, то у меня с ними были бы «мир, дружба, жвачка».
Описанная выше история с аспирантом не является уникальной, так как, правда, без таких восторгов, но с благодарностью это происходит с каждой диссертацией, которая попадает мне в руки, если я хочу помочь соискателю или его научному руководителю, который обычно тоже не видит, что их работа содержит уйму «грязи» и «мусора».
Перейдём от длинных текстов к коротким. Я предложил помощь в написании статьи аспиранту, у которого не хватало публикаций на русском языке. Первоначально его текст содержал шесть страниц, и я сделал по нему 39 замечаний.
Они были устранены, а текст увеличился до семи страниц. Я прочёл их и написал… 41 замечание. Самое неприятное при этом состояло в том, что в этой итерации сохранилось несколько неточностей, которые я предлагал устранить в первый раз, но головной мозг аспиранта на новой итерации либо был отключён, либо, что печальнее, включён, но плохо работал. Возможно, аспирант в это время переключился на другой мозг – спинной. Я аспиранту всё это поведал. Он «ничего не отвечал, только ботами качал».
После этого он позвонил мне и поинтересовался моей мотивацией для столь подробного вычитывания текста, так как, видимо, посчитал, что профессор, напрашиваясь в соавторы, должен добиваться этого более простым путём. Я прочёл аспиранту лекцию о совести и чести…
Он учёл замечания и прислал мне откорректированный, уже восьмистраничный текст, по которому у меня оказалось 47 замечаний. Это была третья итерация.
В четвёртой итерации было 40 замечаний, в пятой – 35.
Всё было бы терпимо, если бы одно замечание, на которое я указывал каждый раз, не повторялось во всех пяти итерациях: после двоеточия аспирант почему-то продолжал писать cловосочетание «а именно». Ничего лучшего, чем предложить аспиранту прочесть текст про печника я не придумал, но не выдержал, позвонил ему и рассказал этот текст своими словами: «Печник подробно рассказывал и показывал, как класть печь. Потом смотрел, как это делает ученик, и отвечал на все его вопросы. После завершения обучения печник за каждую ошибку бил ученика «в морду». Вскоре ошибки исчезли, а ученики – нет». При этом я выразил сожаление, что не могу поступить как печник, так как мы общаемся онлайн. Если бы аспирант был поближе, то ему, видимо, можно было бы «вправить мозги» высокоточной палкой из… орешника. А если бы он переслал мне указанную выше справку о наличии у него дислексии, то я бы и вовсе от него «отвязался».
Мотивация с помощью «печника», видимо, подействовала, и процесс на девятистраничном тексте за три итерации (шестая – с 22 замечаниями, седьмая – с тремя, а восьмая – с четырьмя замечаниями) сошёлся: текст, присланный в девятый раз, меня устроил. Таким образом, на весьма коротком тексте за восемь итераций было устранено 231 замечание, что, к сожалению, является весьма типичным для первой статьи автора, которую кто-то опытный внимательно читал…
При этом отмечу, что журналист Анатолий Аграновский в своё время сказал: «Кто плохо пишет, не плохо пишет, а плохо думает».
После этого я поинтересовался у аспиранта, как при такой писанине по-русски он является автором (тем более первым) англоязычной статьи в супервысокорейтинговом журнале? Аспирант ответил, что среди авторов этой статьи есть такой же «дядька», как я, который соавторов типа его заставляет написанное по десять раз переписывать. Потом я спросил аспиранта, знает ли этот «дядька» очень хорошо английский, так как он тоже русский, и получил ответ: «Да».
Дальше я узнал самое главное: если в соавторах есть выдающийся учёный Mark Daly c индексом Хирша в Google Scholar, равным огромному числу – 250, то после «дядьки» текст вычитывает ещё и он! Видимо, Mark, несмотря на то, что он американец, прочёл по крайней мере эпиграф к «Капитанской дочке» Пушкина и узнал, что честь надо беречь смолоду… Вот бы и многим нашим научным (и не только) работникам узнать об этом…
Когда я предположил, что у так пишущих тексты программистов так же написан и код, то один из них сказал, что в их код обычно лучше не смотреть. Недавно я был членом комиссии по защите магистерских работ. Одному из соискателей компания, в которой он выполнял работу, запретила показывать код комиссии. В своё время, когда я был председателем комиссии, в подобных случаях я предлагал закончить защиту и пойти соискателю защитить диплом туда, где код можно показывать. После этого обычно начиналась паника, и компания разрешала показать код, но только комиссии. На этот раз я решил упростить ситуацию и, высказав много замечаний по презентации, спросил у соискателя: «Если у Вас такой бардак в презентации, то как мне поверить, что в Вашей программе не то же самое?» Молодой человек задумчиво сказал: «Правильный вопрос…», и этот ответ полностью удовлетворил меня!
Ещё один аспирант (не мой – принципиально, что это два слова, а не одно!) за десять дней до дедлайна прислал мне рукопись реферата, которая не была откорректирована по результатам рассмотрения готовности аспиранта к защите на аттестационной комиссии. При этом он не заменил ни номер специальности, ни название диссертации, ни положения, выносимые на защиту, как ему посоветовали на комиссии, что делало бессмысленным рассмотрение реферата.
Но это ещё не всё – в списке его публикаций была только одна работа по информатике, в то время как для защиты в нашем Совете их, как минимум, должно быть три. Это делало защиту невозможной. Когда я сказал об этом аспиранту, он спокойно ответил, что на комиссии этот вопрос обсуждался, и его статьи, опубликованные в Lecture Notes in Computer Science, признали относящимися к новой специальности. На мой вопрос: «И где они?», — аспирант спокойно ответил: «На сайте университета». Я, естественно, после этого «говорил» не спокойно…
На следующий день история с этим молодым человеком продолжилась. Он прислал мне откорректированный, по его мнению, реферат. У него была специальность «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», при этом название диссертации начиналось с таких слов: «Методы моделирования…» Ему посоветовали заменить специальность на «Информатика и информационные процессы», что он и сделал. А так как, видимо, ему никто не сказал, что при этом надо изменить и название, то это он не сделал. Думаю, так произошло потому, что у молодого человека головной мозг в эти дни был на профилактике, а работал только спинной. Увидев всё это, я вернул ему, не читая, его «произведение», так как после изменения названия в реферате многое должно измениться.
Этот мальчик, как все другие, с которыми я общаюсь, очень хороший. Интересно, как же общаться с молодыми людьми, которые такими хорошими не являются?
Мне кажется, что этот молодой человек полностью «подпадает» под определение «Люди, далёкие от науки, должны быть далеки от неё!», по крайней мере, в части получения учёной степени. Однако, если он как-то и где-то защитится, то и Бог с ним, так как это «счастье – когда люди, которые Вам не подходят, к Вам не подходят». Всё может быть, но пока молодой человек вышел из «игры». Да и зачем ему продолжать «играть» в эту, похоже, неинтересную для него игру, если молодой человек хороший программист, и пока его не «съел» искусственный интеллект (ИИ), он весьма хорошо зарабатывает.
Некоторые предлагают заменить меня в рассматриваемом вопросе на ИИ, однако я сомневаюсь в возможности сделать это, так как при неисчерпаемости человеческой дури ИИ с ней вряд ли справится. Интересно, сможет ли ИИ, например, подсказать аспиранту, что за десять дней до дедлайна надо бросить ходить на работу и сосредоточиться на завершении диссертации, так как если пропустить дедлайн, для выхода на защиту надо будет официально заплатить нешуточную сумму. Не знаю, как там ИИ, но мне различными педагогическими и не только приёмами удалось убедить аспиранта поступить правильно!
Я как-то «наехал» ещё на одного аспиранта, который при оформлении материалов диссертации для отправки в Высшую аттестационную комиссию кое-где написал кое-как и чёрт-те что. На это он сказал: «Это понятно», — и спросил: «А что по существу?» Пришлось на повышенных тонах объяснить, что в данном случае форма и содержание совпадают.
Недавно я опубликовал текст «Как пишут по-русски документы даже прекрасные IT-мальчики». На сайте был только один комментарий, но зато какой: «На все 1000% поддерживаю! Сам в своё время (1998-2004 гг.) боролся со студентами, не способными составить связный текст с изложением их мыслей, а теперь на работе пытаюсь читать совершенно нечитаемые документы. Посещают мысли о необходимости возврата к розгам…» (Сергей Середа). Педагоги этот метод осудят, а интересно, что они предложат взамен?
В этом тексте я писал про лучших из лучших аспирантов, а вот фрагмент нового текста: «Давно не читал бакалаврских работ. Сейчас читаю одну из них. Вот что я написал её автору: «Молодой человек, ты ходил в школу? Кто тебя научил так писать: «Между ними нету никакой связи», или ты, как Хрущёв, всего добился самообразованием? Но, видимо, ты не поймёшь это сравнение, так как не знаешь, кто такой Хрущев?» Я обратил внимание на слово «нету», а одна женщина – на то, что он это слово усилил словом «никакой»! Этот текст, который я не дочитал даже до середины, напомнил мне письмо дедушке девятилетнего мальчика-сироты Ваньки Жукова, которого отдали в ученье к сапожнику в Москву… Но я на роль дедушки в данном случае не нанимался!»
Когда я рассказал об этой истории одному преподавателю вуза – ответственному лицу, он вынес интересный вердикт: «Работа бакалавра хорошая (несмотря на то, что она очень плохая – А.Ш.) – из Ваших слов понятно, что он её писал сам, а не ИИ!» И у нас, наконец-то, появилась новая этика!
И ещё. Практически каждый студент при рассмотрении его курсовой работы, видимо, не веря, в то, что по его пояснительной записке можно что-то понять, говорил: «Сейчас я Вам всё объясню!» Интересно, как он сделает это, после того как работа будет опубликована в Интернете.
Во времена Ваньки Жукова розги ещё применялись, а теперь об их введении заговорили вновь, но пока только для повышения дисциплины. Интересно, что возможность их применения в исключительных случаях поддерживает 65,8% школьников и 81% учителей. Интересно, безграмотность и разгильдяйство – это исключительные случаи?
Но пусть в школах педагоги со всем разбираются сами. Говоря же о студентах младших курсов, я считаю, что единственный способ повысить качество сдаваемых ими письменных работ состоит в том, чтобы преподаватели по всем предметам в меру своих сил, знаний и грамотности оценивали не только свой предмет, но и не принимали бы даже правильно сделанную работу до тех пор, пока она не будет написана и оформлена по-человечески.
Если же на младших курсах побороть эту «болезнь» не удастся, или молодые люди поступят в магистратуру из тех вузов, где борьба с «безграмотностью» не велась, их бакалаврские и магистерские работы до передачи руководителю, а тем более рецензенту, должны быть приведены в человеческий вид.
Я предлагаю два современных способа борьбы с указанной разновидностью безграмотности, с начальной стадией которой в СССР не только активно боролись, но и победили её. Первый – заставить ИИ приводить работы хоть в какой-то божеский вид (возможно, и далёкий от того, что хотел бы увидеть я), а второй – так как IT-студенты старших курсов практически все работают, то до сдачи работы на проверку пусть ею займётся нанятый студентом технический редактор. Если такие «меры спасения» приняты не будут, то работу к защите не допускать.
Изложенное подтверждается словами выдающегося советского математика Льва Семёновича Понтрягина: «Только хорошо выполненная работа даёт радость! Выполненная небрежно, она вызывает отвращение и постепенно вырабатывает в человеке аморальное отношение к труду».
В силу того, что я не выдающийся, а тем более не математик, скажу то же самое, но другими словами: «Соискатели должны запомнить, что у их преподавателей, рецензентов, оппонентов, членов комиссий и Советов основная специальность не ассенизатор и не мусорщик, которые в обществе необходимы, так как люди по своей природе не могут не гадить, в то время как для соискателей, которые много лет чему-то учились и не имеют указанных выше справок, «гадить» и «мусорить» в своих работах не является необходимостью, и поэтому они за это должны повсеместно наказываться».
Отмечу, что «вес» ошибки зависит от контекста. Казалось бы, ерунда в большом тексте простить неопределённый артикль вместо определённого, но когда такое происходит в резолюции ООН, это катастрофа. Сейчас это стало особенно актуально, так как большие языковые модели галлюцинируют, а людям предлагают учить иностранные языки только для того, чтобы не иметь деменции.
Если мои или какие-то другие предложения решат рассмотренную в настоящем тексте проблему, то необходимость применения указанного выше предложения Середы исчезнет.
Теперь вселю в дочитавшего досюда оптимизм. Каким бы ни был Ваш текст, я уверен, что он лучше первого издания книги одного всемирно известного преступника, которое, по словам писателя Лиона Фейхтвангера, якобы, содержала… 168 тысяч ошибок! Следовательно, вся эта книга, как, впрочем, и его жизнь – одна сплошная ошибка. Постарайтесь, чтобы то же самое нельзя было сказать о Вашей работе, несмотря на то, что в ней будет значительно меньше ошибок, а Вы никогда не были и не будете преступником.
Теперь вернусь к преподавателю, с рассказа о котором начался этот текст. До этого я написал текст, в котором одним из героев был этот преподаватель, и отправил написанное ему на согласование. Ответ был быстрым и кратким: «Фактических ошибок нет». Я поинтересовался: «А не фактических?» Его ответ поверг меня в изумление: «А какие еще ошибки бывают?» При этом он не шутил…
Разъяснять я не стал, а в качестве ответа послал оказавшиеся «под рукой» 40 замечаний к статье аспиранта, отметив, что там фактическая ошибка только одна – в списке литературы для одной из статей указан неправильный номер журнала, в котором она опубликована…
Более подробный ответ на поставленный этим преподавателем вопрос – этот текст…
Это далеко не первый мой текст на эту тему, так как я искренне считаю, что русский язык именно та скрепа, которая объединяет нашу страну, и поэтому, по крайней мере, наиболее образованные молодые люди должны уметь классно им пользоваться и вести в этом вопросе всех остальных за собой.
И в заключение. Не просто прочтите указанные выше мои тексты «Универсальные советы защищающимся» и «Продолжение текста «Универсальные советы защищающимся» и комментарии к нему» – это из-за их размера почти бессмысленно. По моему мнению, их надо читать медленно, сверяя то, что написано в них, с текстом, написанным Вами!
комментарии закрыты.







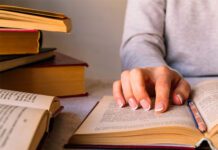


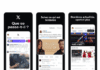
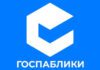






Подавляющее большинство студентов и аспирантов не владеют русским языком. В той мере не владеют, чтобы связно и понятно писать. И при этом правильно писать, как грамматически, так и синтаксически.
Это было одной из причин, почему я ушел из преподавания. Другой причиной была до неприличия низкая зарплата.