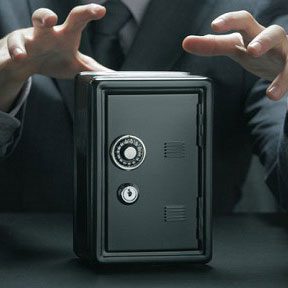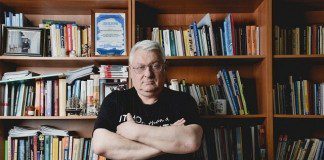В Москве 23 марта прошла встреча представителей софтверной индустрии и министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова. Краткий отчёт о выступлении министра «Экспертный центр электронного правительства» опубликовал ранее, теперь предлагаем вашему вниманию позицию индустрии.
Перед мероприятием подслушал диалог:
— Добиваюсь с Никифоровым встречи. Через Казань.
— Зачем?
— Да просто посмотреть на него и спросить: ты сам-то понимаешь, что творишь?
По ходу встречи эти настроения испарились, возникло даже подобие оптимизма и осторожного взаимного понимания. Заметное изменение в настроении аудитории произошло (так показалось со стороны), когда Николай Никифоров во время обсуждения выступлений присутствующих заявил, что ни открытие в России центра разработки, ни локализация программных продуктов не помогут SAP стать исключением из правила «госорганы не покупают импортный софт, если есть отечественный аналог».
Это важнейший пункт министерской программы поддержки отечественного производителя: запрет тратить деньги налогоплательщиков на импортный софт, если есть свой. Технических проблем тут множество, но Минкомсвязь к ним, похоже, готова.
После сформулированного осенью прошлого года предложения отобрать у индустрии 10% прибыли, чтобы профинансировать импортозамещение, казалось, программистам надо ждать нового министра, с этим ничего не получится. Но нет, Николай Никифоров от странной идеи отрешился, а индустрия, как оказалась, отходчива.
Выступавшие после министра IT-бизнесмены не сказали, в сущности, ничего такого, о чём не говорили бы последние годы при каждом удобном случае. Это походило на очередной молебен – с той важной разницей, что он наконец-то стал действовать. Хотя бы на профильного министра.
Сюжет, в сущности, лесковский. «Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся». Государю, как известно, ничего про кирпич не сказали («не в свое дело не мешайся: в России на это генералы есть»), «и чистка все продолжалась до самой Крымской кампании». «А доведи они левшины слова в свое время до государя, – в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был».
С софтом та же история, 1:1. Вот как донести до государя, что англичане чужой софт себе в госорганы не ставят? Минэкономразвития докладывать государю не желает, стоит в оппозиции Минкомсвязи. «Логика» у экономических развивателей такая: рубль слабый, отечественный софт дешёвый, вот пусть наши и конкурируют с SAP, Oracle и Microsoft, никаких ограничений на госзакупки ПО чинить не надо.
(Экспертный центр запросил у пресс-службы Минэкономразвития разъяснения по поводу позиции министерства, но на момент публикации их ещё не получили – впоследствии опубликуем отдельно.)
Это ошибка. Нет никакой на российском рынке программного обеспечения конкуренции «наши против запада», она – миф.
Наталья Касперская (InfoWatch) заявила о рисках для госструктур, покупающих софт у стран – геополитических противников: это риск отказа софта в произвольный момент времени и риск высокотехнологичного шпионажа. При этом российским компаниям, даже выигравшим конкурсы на поставку своих продуктов в странах ЕС, отказывают в закупках их программных продуктов. «Какая «конкуренция»? Да у нас заказчики оплатили программный продукт, а воспользоваться им не могут – он попал под санкции! Где здесь «конкуренция», о чём мы, вообще, говорим? Наши меры должны быть существенно жёстче предлагаемых, адекватными тем мерам, с которыми сталкиваются на Западе российские производители софта», — сказала Наталья Касперская.
Андрей Свириденко (Spirit) во время выступления назвал аргументацию в пользу госзакупок импортного софта под предлогом поддержки конкуренции «антироссийской и антигосударственной», а в разговоре с корреспондентом «Экспертного центра электронного государства» в ответ на вопрос о том, не боится ли он ответных мер регуляторов на американском рынке (который для Spirit всегда был главным – софт российской компании использован, например, в чипах Texas Instruments. – ред.), ответил: бояться уже нечего, с марта прошлого года нам продавать уже не дают, видно, их спецслужбы разбираются в том, что такое софт, лучше наших. Зато в России все по-прежнему, никаких изменений: своим пробиться нельзя, заказчик прописывает в условиях тендера совместимость с проприетарным импортным софтом, и всё, даже ФАС в ситуацию вмешаться не может.
Борис Нуралиев (1С) высказался о центрах разработки иностранных компаний: не следует считать их связанными с импортозамещением, это не импортозамещение, а, «наоборот, опасная ситуация». Важно, кому принадлежат права на софт, кто принимает решение о том, какой продукт разрабатывается, где и кому этот продукт будут продавать, и по какой цене, кто контролирует обновление и использование продукта.

Центры разработки в России потребляют дефицитный ресурс – людей – в интересах иностранного производства. Или вовсе вывозят его из страны, как это было в истории с закрытием российского центра разработки Google.
Министр пытался возражать, высказавшись в духе Сергея Белоусова (главы Acronis, компании российского происхождения, партнера 1С по совместному бизнесу) и своего бывшего заместителя Марка Шмулевича, курировавшего софтверную отрасль и ушедшего с госслужбы в Acronis) – дескать, важно, что вместе с центрами разработки в стране находятся инженерные компетенции. Но не отстаивал этот тезис.
Борис Нуралиев на вопрос об оценке перспектив подготовленного Минкомсвязью проекта постановления правительства сказал корреспонденту «Экспертного центра электронного государства»: посмотрим, надежда есть, сумел же министр с января обеспечить нам, производителям тиражного софта, те же льготы по выплате страховых взносов, что имеют иностранные центры разработки, может, и с госзакупками у него получится.
Игорь Ашманов («Ашманов и партнеры») заявил, что разговоры о конкуренции с западным производителем – вредны. Речь о национальной безопасности, а не о рынке софта. Приведённая Ашмановым аналогия с BMW, которая недавно научилась обновлять бортовой софт автомобилей, поможет, возможно, нашим лесковским генералам понять суть угрозы: извне, простым изменением софта или через закладку в нём, можно остановить не только автомобиль, но российские банки и органы власти. На превосходство импортного программного продукта поэтому придётся не обращать внимания: во-первых, функциональность тут зачастую избыточна (достаточно посмотреть, например, сколько функций Microsoft Word используются в госсекторе), а во-вторых, и это главное, сегодня не об удобствах пользователя надо думать, а о том, чтобы он внезапно не утратил возможность работать с компьютером.
Что касается конкуренции, то импортозамещение с ней всё же вполне совместимо. Константин Варов, управляющий директор «Диасофт Платформа», компании, в консорциуме с ещё 13 партнёрами создавшей независимую от импортного проприетарного софта (включая операционные системы) банковскую систему, говорит, что сделано это для того, «чтобы не потерять клиентов». Стоит банку попасть под санкции, и его бизнес, зависящий от импортного софта, окажется под угрозой остановки, а при злонамеренном вмешательстве поставщика софта просто остановится. Исключать такую возможность было бы наивностью. Банковский сектор, полагает эксперт, беззащитен – с чем трудно спорить.
Индустрии нужны заказы. Между тем на внутреннем рынке творится нечто странное. «Ты клиент Сбербанка? Ну вот, считай, что твои 500 рублей ушли в Symantec. На три с половиной миллиарда антивирусов у них купить – значит взять у каждого клиента Сбера примерно по полтысячи. Да Касперский за эти деньги любое их требование выполнил бы! Три с половиной миллиарда у меня вся компания за год хорошо, если заработает. Да что Сбер и Symantec, это мелочь по сравнению с тем, что творится, просто случайно в прессу попало», — иллюстрирует примером проблему импортозамещения один из участников встречи.
В заключении надо сказать об уже упомянутом в цитате из «Левши» Крыме. Сегодняшняя пресса много пишет о том (см., например, «Коммерсант»), что министр на вчерашней встрече пообещал запретить госзакупки софта у западных компаний, не работающих в Крыму. Действительно, это было сказано, но вскользь и с представителями индустрии не обсуждалось. Крым – только один субъект федерации, проблема же безопасного программного обеспечения стоит перед всей страной. В сущности, вся Россия находится в том же положении, что и Крым.