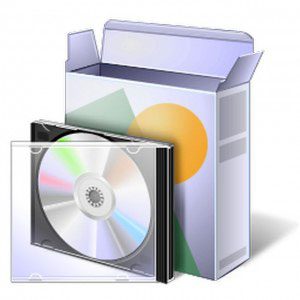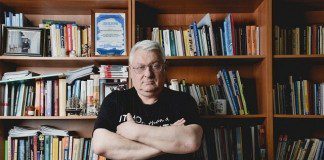Минкомсвязь в пятницу, 5 июня, официально сообщила о событии, имевшем место три дня назад – совещании с представителями СПО-разработчиков. В пресс-релизе сообщается, что эта встреча была, оказывается, «первым этапом отбора проектов импортозамещения программного обеспечения (ПО), представленных на рассмотрение в ведомство компаниями IT-отрасли и проектными консорциумами в рамках реализации утвержденного ранее отраслевого плана импортозамещения ПО».
В истории с импортозамещением софта Минкомсвязь похожа на Unix, где «никто не знает, как на этой неделе называется команда Print». Планы ведомства весьма подвижны. Началось, как вы помните, с идеи учредить фонд а-ля фонд УУС, отобрать часть прибыли у софтверных компаний и пустить отобранное на разработку софта. К счастью, от этого плана теперь отказались. Позднее Минкомсвязь создала рабочие группы по отдельным направлениям разработки софта, пока без видимого практического результата.
Не будем напоминать ни о том, что СПО регулятор мог (и должен был) заняться много раньше, ни о позиции отраслевых софтверных ассоциаций (это, прежде всего, РУССОФТ и АРПП «Отечественный софт») и их контактах с регулятором, о готовящемся Минкомсвязью постановлении правительства о преференциях отечественному софту при госзакупках и прошедшем первое чтение законопроекте на ту же тему, мы об этом не раз писали. Заметим только, что история с поддержкой индустрии ПО и импортозамещение пересекаются далеко не полностью.
Непонятно, кто в стране главный по отечественному софту – то ли профильное министерство, то ли Минпромторг. В список отраслей, нуждающихся в господдержке, не то что программисты, а вообще никакие айтишники не попали. Зато те, кто попал – а это, например, машиностроители – в отечественном софте нуждаются, потому что импорт софта перекрыт санкциями, да и небезопасно делать, скажем, газовые турбины и танки на американских САПР. Деньги для разработки российского ПО — у Минпромторга, он и заказывает музыку – на свой, понятно, вкус.
Пересечение импортозамещения с индустрией ПО имеет место в форме «консорциумов» (подробнее о них можно прочесть здесь, надо только сделать поправку на то, что фраза «российские компании-разработчики подали в Минкомсвязь заявки на госфинансирование» действительности соответствует не вполне – разработчиков позвали в «консорциумы», и они согласились, но денег у регулятора просят не они, а те, кто «консорциум» возглавляет). Беру «консорциум» в кавычки, потому что, по каноническому определению, консорциумы создаются с целью что-то предпринять, в смысле заработать, и инициатива их создания рождается снизу, а в данном случае источник прибылей пока не определён, и инициатива исходит от правительства.
Отчасти «консорциумы» напоминают рабочие группы Минкомсвязи – есть набор направлений, (примером направления могут служить те же САПР), под каждое из них отряжается совокупность компаний-разработчиков. Возглавляет такую совокупность какое-то одно предприятие, как правило, с госучастием. Так, институт экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ) головной по части систем управления жизненным циклом изделия и примкнувшими к этому делу ERP-системами.
Но вернёмся к «первому этапу отбора проектов импортозамещения». Рассматривали «25 паспортов проектов по реализации второго блока плана «Инфраструктурное ПО».Там были три мобильных ОС, шесть «клиентских и серверных ОС» (именно так, вместе – ред.), семь СУБД, шесть облачных платформ и систем виртуализации, три офисных пакета.
Знал, что Россия – богатая страна, но не до такой же степени.
Кто судьи? А вот кто: ОАО «Интер РАО ЕЭС», ВГТРК, ЦБ РФ, ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Газпром нефть», ОАК, Новосибирский институт программных систем, ЕВРАЗ, АО «Вертолеты России», ОАО «Газпромнефть», «Ростех», «Роснефть», ФГУП НИИ «Восход», ПФР, АО «Мосводоканал», Минздрав, Минкомсвязь, НИЯУ «МИФИ» и пр.
Отсюда ясно, что вся история – не рыночная. Решается привычная задача распределения средств, торжествует принцип «кто за это отвечает». Не то чтобы этот принцип не работал – нет, он работает, конечно, но крайне неэффективно. Это не то разделение труда, которое ведёт к росту его производительности.
Владимир Рубанов, главный конструктор отечественной Linux-подобной операционной системы ROSA и президент одноименной компании, участвовавший в мероприятии, несколько обнадёжил сообщением о том, что среди двух с половиной десятков «паспортов проектов» значительное число отсеялись сразу или почти – так что слухи о наличии в России семи конкурентов Oracle и MS SQL Server всё же преувеличены.
Менее утешительным был ответ на вопрос о том, с чем имеют дело эксперты – с живыми продуктами, с протитипами хотя бы, или с их описанием? Оказалось, что с описанием. Это, конечно, не экспертиза, а имитация экспертизы (такого Рубанов не говорил, это мы сами рискуем заявить).
Ну и главное – деньги. Что обсуждается-то? Без денег все эти «первые этапы отбора» представляют собой более или менее чистую абстракцию, без ТЗ и без какой бы то ни было ответственности исполнителя. Ничего конкретнее «15–20 миллиардов рублей на пятилетний период» и «принцип софинансирования государства и частного бизнеса» не сообщается.
Поделюсь напоследок личным переживанием: не понимаю я, зачем нам мобильная ОС. Это же запчасть от телефона, и если мы телефоны не делаем (а мы их не делаем), то зачем нам мобильная ОС? И почему делать мобильную ОС надо, если уж без неё никак, целых пять лет? Можно ведь и за пять месяцев, примеры имеются. Но это мои проблемы, извините, отвлёкся.
На дворе лето 15-го года. Скоро будет год разговорам об импортозамещении софта. Результатом и не пахнет. А ведь уже сейчас многое было бы сделано, послушайся правительство настоящих патриотов (нисколько не стесняюсь выспреннего тона, напротив, считаю его единственно верным) из числа тех, кто умеет добиваться результата. Софтверной индустрии не надо ничего, кроме гарантии государственного заказа на решение конкретных задач, и под настоящую ответственность.
Ну да ладно, кто я такой, чтобы проповедовать. Лучше Касперской всё равно не изложу.