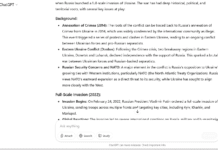Freedom as a Service, FaaS. Интернет породил рынок, на котором торгуют свободой на вынос. Не сам додумался, к сожалению, прочитал в написанной незадолго до Сноудена вполне академической (читай: несколько наивной) статье, но что это меняет. Правда, здесь торговля свободой понимается уже, чем есть на самом деле: свобода доступа к информации в обмен на персональные данные. Персональные данные – пол, возраст, место жительства, время и маршруты поездок, связи с другими людьми, предпочтения и пристрастия и пр., это всё гораздо важнее имени и номера паспорта – позволяют интернет-компаниям создать высокоточное рекламное оружие. Хорошо известная схема заработка Google, «Яндекса» и пр.
Просто экономика. И, хотя экономика наука тёмная, в данном случае всё понятно. Но за пределами экономики FaaS приобретает, к сожалению, политический смысл.
Понятие «свобода» использовалась в идеологической войне «свободного мира» против СССР. Рейган договорился до утверждения, что такого слова нет в русском языке, и был по-своему прав. Свободы предпринимательства точно не было. Свободы творчества тоже (странно: на качество произведений искусства это если и влияло, то явно неотрицательно – фигур, равных Высоцкому, в РФ нет; очевидно, качество образования народа и общий уровень культуры важнее «свободы»). И многих прочих свобод, включая свободу выбирать между «Фордом» и «Тойотой», мы не нюхали. Поэтому апелляция к «свободе» прекрасно работала, и коммунистическая власть этому противодействовала глушением «Свободы» и «Голоса Америки».
На Интернет глушилку не поставишь. Не то чтобы этого технически нельзя было сделать, но над вами смеяться станут, дикость, не принято.
Исключения редки. Франция угрозой штрафов заставила Yahoo фильтровать контент, запретив предлагать к продаже в стране нацистские артефакты. Китай в 2009 году блокировал YouTube и даже спровоцировал Google, которую поддержало правительство США, уйти с китайского рынка. (Впрочем, бескорыстная любовь к деньгам оказалась сильнее тяги к «свободе», и в 2012-м Google вернулась в Китай.) Были и иные случаи столкновения свободных государств с Google. Например, в Германии наложили ограничения на Google View.Блокировала сервисы Google и Бразилия.
Но тенденцией борьба государств с даруемой Интернетом «свободой» на Западе не стала. Северокорейский метод и Кубу вспоминать не будем, нетипичные истории, хотя и в этих странах прогресс постепенно берёт свое. Не знаю, как в КНДР, а на Кубе проблема доступа к Интернету равна проблеме инфраструктуры, ограничений на контент не заметил.
Вернемся к политической онлайн-торговле «свободой». В чистом виде попытка сделать это имела место как раз на Кубе: правительство США втихаря (диссиденты ничего не знали) финансировало проект создания Twitter-подобной социальной сети ZunZuneo, использующей только сотовую связь для обмена сообщениями, с целью предоставить свободу противникам режима Кастро объединяться и действовать сообща. ZunZuneo кончился вместе с выделенными на него деньгами.
FaaS в Китае оказалась побочным продуктом деятельности Google, ничего специального – просто на YouTube демонстрировались тибетские протесты, вот компартия YouTube и прибила.
Так что свежая попытка наших депутатов ограничить «свободу» (самое серьезное из того, что они натворили в весеннюю сессию, – весьма уязвимый для критики закон о хранении персональных данных на территории РФ) не оригинальна, хотя и экстравагантна. Это повторение уже пройденного в Китае, и – отчасти – в Европе.
Два момента следует отметить особо.
Первое: что в Интернете принято, а что нет, определено культурными и, простите, мировоззренческими свойствами его создателей. Инженеры Кремниевой долины задали действующую до сих пор инерцию: Интернет = территория свободы. Без кавычек. Той самой свободы, которая предпочтительнее несвободы. Когда же Интернетом завладели политики (хорошо, смягчим: стали влиятельными стейкхолдерами), им показалось удобным использовать эту инерцию для маскировки онлайн-экспорта «свободы», как в случае с ZunZuneo.
Желание Европы, Франции прежде всего, и других государств, в числе которых Россия, поучаствовать в «управлении Интернетом» объясняется именно этим: стремлением к самостоятельности в киберпространстве. Способы удовлетворения этого желания следует обсуждать отдельно, пока ясно только, что шариковское «взять и поделить» немыслимо. Но сама цель оправдывается серьезными исследователями – Мануэлем Костельсом, в частности, который говорит о способности глобальных интернет-компаний проецировать политическую власть и создавать культурные ценности.
Второе: противоречия между государствами и IT-компаниями, существующие давно, благодаря Интернету достигли максимальной остроты.
IT-бизнес мало зависит от конкретного государства. Он перетекает из страны в страну, совершенно не обращая внимания на границы. Он не привязан ни к недрам, ни к недвижимости, главный ресурс – люди, и с какой скоростью IT-компании, отечественные в том числе, перемещаются по планете (для России, увы, это движение центробежное), мы наблюдаем прямо сейчас. Известна легенда о том, как Microsoft отбилась от претензий американских налоговиков угрозой переехать в соседнюю Канаду – даже если неправда, иллюстрация отличная.
Глобальные IT-компании влияют на мировую политику сильнее большинства государств. Бывает, эти компании действуют со своими государствами заодно (благодаря Сноудену мы знаем то, о чём прежде только догадывались), с понятными конкурентными выгодами.
России сильно повезло. Пусть глобальных IT-компаний у нас нет, зато внутренний рынок софта и IT-сервисов прикрыт своими силами. Государственный соблазн включить частно-государственное партнёрство с IT-компаниями по привычной схеме опасно. IT — не нефтедобыча, отобрать IT-компанию нельзя, её можно только уничтожить, да и то надо постараться.
Государству надо с IT-индустрией ладить. Сделать так, чтобы у неё не было нужды в FaaS, «свободе как сервисе».