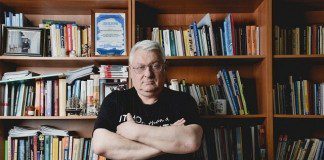Об авторе: Дмитрий Чистов, доктор экономических наук, профессор финансового университета.
Счётная палата опубликовала в четверг отчёт «Оценка мер внедрения цифровых технологий в образовательных учреждениях общего образования».
Как и положено в этом ведомстве, автор документа занят счётом денег, на цифровизацию общего образования истраченных. С удивлением обнаружил, что в 2021 году истрачено 27,6 миллиарда.
Но не только деньги. Констатировано отсутствие «стратегии развития сферы образования, в том числе включающей сквозные (общие) для всех уровней образования принципы, приоритеты, цели и задачи цифровой трансформации». Сказано также, что «в 2016–2018 годах мероприятия [связанные с применением IT в школах] в основном были связаны с развитием цифрового образовательного контента, то с 2019 года в приоритетном порядке решались вопросы материально-технического обеспечения и подключения школ к сети Интернет». Под цифровой трансформацией, как мне показалось, имеется в виду главным образом дистанционное обучение.
В рекомендациях, связанных, в частности, с разработкой упомянутой (и отсутствующей ныне) стратегии – вся тяжесть цифровой трансформации предназначается школьному учителю. Ему предстоит «систематизированное обучение и переподготовка для корректного методического использования цифровых технологий и инструментов». Его ждёт «проведение повышения (стиль оригинала – ред.) квалификации школьных педагогов по вопросам искусственного интеллекта». Он должен обеспечить начальству показатель «доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, %».
Дело не в специфике деятельности СП, обусловившей эти рекомендации. Нет, именно так у нас вообще относятся к цифровизации педагогической деятельности. С середины нулевых главным делом здесь считается провести в школу Интернет, а не то, что с этим Интернетом в школе станут делать.
Дистанционное обучение в вузе, как показали ковидные времена, приемлемый выход из положения. Если нельзя учиться в университетской аудитории, можно учиться «по Интернету». Но это вуз, где дают IT-специальность. Ни студент, ни преподаватель трудностей не испытывают, даже, пожалуй, наоборот, изучать IT за компьютером удобнее. Провёл бы аналогию с обучением лётчиков, когда ученик и инструктор находятся в одной кабине: нормальный педагогический процесс.
Кабина самолёта в рамках аналогии – это образовательный контент. Если он есть, педагогу и ученику есть над чем совместно работать. Если нет, дистанционное обучение превращается в обучение обычное, только ущербное, когда живое общение педагога и ученика заменяет говорящая картинка в мониторе.
Такие технологии были и в Хогвартсе, однако там, помнится, профессура ими не пользовалась – наоборот, детей на целый семестр собирали в интернате, никакого онлайн.
Однако у нас (ещё одно удивительное сведение, содержащееся в отчёте СП) на школьный образовательный контент пришлось только 5,9% средств, истраченных государством в 2016–2021 годах «на внедрение цифровых технологий в образовательные учреждения общего образования». На цифровизацию же материально-технической базы школ, для сравнения, пришлось 59,8%. Это не считая затрат на IT-инфраструктуру (ещё 9,6 %).
Без образовательного контента, между прочим, не имеет смысла и «доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы». Навыки учителям нужны исключительно в связи с цифровым образовательным контентом, т.е. конкретными приложениями для цифрового обучения.
Собственно, образовательный контент – это и есть цифровая трансформация школьной учёбы. Провести в школу Интернет лишь условие, но не смысл такой трансформации. Думать иначе значит отдать «цифровое» обучение на откуп айтишникам. Что у нас, судя по цифрам СП, и происходит.