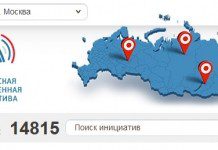Мигалками машины чиновников оснащать не перестанут, вопреки желанию ста тысяч граждан оставить мигалки только автомобилям спецслужб. Такое решение приняла вчера в правительстве рассмотревшая онлайн-петицию экспертная рабочая группа, о чем D-Russia.ru своевременно сообщил.
Без хотя бы поверхностного обсуждения сути дела (чем вредны мигалки чиновников) не обойтись, но это чуть позже. Не потому, что это не важно – это главное, но не наша тема. Наша – тема электронной демократии в России, и вчера в этой предметной области возник во всех отношениях замечательный прецедент.
Верхи не хотят
Какое решение будет принято рабочей группой, можно было догадаться сразу по «раздатке» – выданным журналистам материалам. Заключения МВД, ФСО и Общественной палаты состояли из «не поддерживаем» и «нецелесообразно». Поддержал, с техническими оговорками, идею принятия закона только «адвокат, к.ю.н. И. Ю. Павлов» (иных сведений об эксперте не предоставили, и на заседании он не выступал, не факт даже, что присутствовал). Вполне понятный расклад сил. Экстравагантный подбор экспертов догадку об итоге обсуждения только укрепил.
Председательствовал открытый министр Михаил Абызов. Инициатор петиции, получивший право излагать суть дела, с его разрешения немедленно передал это право главному по «синим ведеркам» Петру Шкуматову, который говорил вдохновляюще и, главное, правильно, для митинга лучше не надо: на дороге, как и в бане, все равны; история мигалок началась в позднесоветские времена, когда номенклатура оторвалась от народа, и окончилась развалом СССР; спецраскраску машинам с мигалками в Москве заменяют госномера определенной серии; пролетающий мимо пробки чиновник с мигалкой «порождает волну ненависти»; петиция, поддержанная сотней тысяч людей, дает стране возможность «избавиться от ярма».

Но начал Шкуматов с того, что в нынешних количествах машины с мигалками (их 569, по данным МВД) проблем движению не создают, не в пробках проблема, а в человеческом достоинстве, равенстве людей друг перед другом и перед законом. Между тем, именно «уменьшение количества заторов на дорогах» было формальной целью петиции.
За это противоречие рабочая группа и ухватилась. О достоинстве стоящих в пробках граждан, созерцающих машины с мигалками на встречке, речь не шла вовсе. Говорили – более или менее убедительно – исключительно о том, что мигалок настолько мало, что трафику они не мешают.
Не буду подробно излагать произнесенное экспертами, ограничусь особенно яркими – и характерными — высказываниями.
Председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин сказал: «Это раньше мигалок были десятки тысяч, а теперь каждого человека с мигалкой мы с Ольшанским лично знаем. Миф о вреде мигалок надо объяснить, и не будет проблемы».
Вице-председатель Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский посетовал на «использование приемов журналистики» – снимают авто с мигалками на разделительной полосе Кутузовского проспекта, там они есть, действительно. А вот на Дмитровском шоссе ничего такого снять не вышло бы, там за три часа одна мигалка проедет — и все. И вообще, если не подглядывать, как понять, что министр с мигалкой едет в прачечную, а не на совещание? Это ведь, на минуточку, вмешательство в личную жизнь. Статья 137 Уголовного кодекса РФ.
Статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов упомянул «разжигание социальной ненависти», имея в виду сказанное Шкуматовым о «волне ненависти», еще упомянул угрозу терроризма — и оправдал мигалки правилами охраны: ну нельзя охраняемому двигаться со скоростью, меньше положенной.

Не удержался председательствующий Абызов – сообщил собравшимся, что водит сам, «в том числе мотоцикл», и что проблема не столько в мигалках, сколько в том, что привилегии на дорогах незаконно присвоили себе неведомые люди: «Если есть время, останавливаюсь на посту ДПС и спрашиваю инспектора – почему не остановили этого нарушителя, он же по разделительной полосе едет? А инспектор в ответ: о, это такой большой человек поехал!» Вот с чем надо бороться, полагает министр – следует такое «отснимать и выложить в Интернет», благо технические средства для этого в Москве есть, одних камер слежения две тысячи. Но не уточнил, в какой связи с предметом петиции находится его предложение.

В общем, никто в рабочей группе идею запретить мигалки законом не поддержал даже в минимальной дозе. Проблему запрета мигалок подменили проблемой их количества. Решено передать вопрос на обсуждение Общественной палате и правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. До конца года такое обсуждение будет подготовлено.
Низы тоже не хотят, а могли бы
Владимира Плигина корреспондент D-Russia.ru попросил прокомментировать случившийся в феврале 2013 года в Индии законодательный запрет на право привилегированного проезда для чиновников. Объяснив предварительно корреспонденту, что эффективно расходуемое время чиновника есть общественное благо, депутат сказал: «У них в Нью-Дели все чиновники живут компактно, неподалеку от административного центра. Вы что, хотите здесь (дело было в доме правительства — АА) квартал для чиновников построить?»

Почему первое, что сделал Шкуматов, выступая, – завил, что мигалки к цели петиции отношения не имеют? Почему нельзя было сформулировать истинную цель петиции, когда она только подавалась на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) – равенство людей за рулем, справедливость? Что теперь толку становиться в позу непонятого косными чинушами борца за справедливость.
Ну, хорошо. Раз уж так вышло с формулировкой, почему нельзя было отстаивать справедливость не одними только хотя и верными, однако абстрактными словесными построениями, но также отсылкой к мировому опыту, как вариант? Эксперты – опытные аппаратчики, из-за вялости Шкуматова они переиграли 100 тысяч голосовавших «за» в два хода. Винить аппаратчиков в этом? Помилуйте. Их не винить надо, и не агитировать, их надо ставить перед несколько более убедительными, чем фрагменты интервью помощника президента Сергея Глазьева, доводами (Шкуматов это интервью цитировал как аргумент, на предмет важности общих нравственных ценностей, и никого не впечатлил — АА).
А уж обижаться на РОИ, как это сделал предводитель «синих ведерок», заявив, что «РОИ дискредитировала себя», – чем это лучше заявления Ольшанского о применимости 137 статьи УК к тому, кто «проник в частную жизнь» едущего в прачечную с мигалкой чиновника? Шкуматов бы еще на микрофон обиделся. РОИ-то как раз отработала отлично – петиция принята, голосование проведено, его подлинность надежно верифицирована, рабочая группа правительства по итогам голосования собралась. Дальше работа у РОИ заканчивалась, а у «синих ведерок» начиналась.

О сути дела
Теперь по существу – следует ли в России запретить мигалки. Экспертный центр электронного государства компетенцией для ответа на этот вопрос не располагает, поэтому прибег к помощи директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, ординарного профессора ВШЭ Михаила Блинкина. Он любезно разрешил процитировать фрагмент монографии «Безопасность дорожного движения – история вопроса, международный опыт, базовые институции» (Москва, 2013, ИД ВШЭ. – 239 с.), написанной им в соавторстве с к.э.н., старшим научным сотрудником Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Екатериной Решетовой.
Публикуем этот фрагмент ниже с незначительными купюрами, относящимися, главным образом, к библиографическим ссылкам.
Приведем несколько характерных кейсов, иллюстрирующих принцип всеобщего равенства на дорогах, главенствующий в развитых странах мира.
В начале 1990-х годов премьер-министр Норвегии госпожа Гро Харлем Брундтланд просила у депутатов стортинга разрешения пользоваться в случае срочных парламентских вызовов «на ковер» полосами, выделенными для общественного транспорта. Ей отказали и посоветовали вызывать в таких случаях такси.
В 2005 году президент Франции Жак Ширак посетил Москву в связи с открытием памятника Шарлю де Голлю. Его автомобиль безнадежно отстал от кортежа принимающей стороны, поскольку французский VIP-водитель ездил привычным для него образом, то есть соблюдал правила дорожного движения.
В 2007 году начальник дорожной полиции города Рима генерал Катанзаро оставил свой автомобиль около ресторана на парковочном лоте, помеченном знаком «только для инвалидов». (Заметим, кстати, что он был за рулем собственного – не служебного – автомобиля и без какого-либо сопровождения!) Фотография генеральского Альфа-Ромео с чужим «инвалидным разрешением» на лобовом стекле появилась в газетах. Разразился скандал, генерал был уволен.
В том же 2007 году королю Швеции Карлу XVI Густаву и его дочери принцессе Мадлен были выписаны штрафы за неправильную парковку автомобилей в центре Стокгольма. (Заметим, что и король был за рулем и без охраны!) Далее цитируем сообщение телеграфных агентств: «По заявлению пресс-службы шведского короля, все выписанные штрафы (около $63 за каждую машину) будут незамедлительно оплачены, а король обещает в будущем самым внимательным образом смотреть на знаки, запрещающие парковку».
Географический ареал тотального равенства прав, обязанностей и ответственности всех участников дорожного движения расширялся хотя и не быстро, но неуклонно.
Последний по времени европейский кейс относится к испанской практике конца 1960-х годов, когда генералиссимус Франко, узнав о катастрофическом отставании своей страны от лучших мировых образцов БДД, распорядился останавливать свой кортеж на запрещающий сигнал светофора. Заметим, что в последующие годы Испания твердо обосновалась в первой дюжине стран-лидеров мирового рейтинга БДД.
Самые свежие примеры перехода этой разделительной черты наблюдались в азиатских демократиях.
Президент Филиппин Бенигно Симеон Кохуангко Акино III немедленно после своего избрания на этот пост в 2010 году, заявил (вопреки возражениям местных служб безопасности!) о своем отказе от использования практики перекрытия дорог, использования спецсигналов и езды по встречной полосе движения.
В феврале 2013 года Верховный суд Индии постановил, что особо важные персоны не должны иметь преимуществ в движении на дорогах общего пользования. В комментариях к постановлению отмечалось, что «езда с проблесковыми маячками, сиренами и автомобилями охраны, практикуемая не только главой государства и высшими должностными лицами, но и прочими многочисленными высокопоставленными особами, воспринимается обществом как «репрессивный символ нашей демократии». Приведем также высказывание знаменитого индийского юриста, адвоката Верховного Суда Индии Хариш Салве, сыгравшего ключевую роль в принятии этого решения: «Настало время осознать, что жители города являются политическими хозяевами страны и, соответственно, с ними нельзя обращаться как с насекомыми, даже в том случае, когда они выступают в роли участников дорожного движения. Трактовка нарушений правил дорожного движения обязана быть единообразной, невзирая на персону нарушителя».
Эти примеры показывают, что позиции, сформированные в мировой практике…, далеко не сразу принимаются к исполнению в тех или иных странах. «Внедрение передового опыта» запаздывает порой на много десятилетий. В 2010 году на международной конференции по городскому транспорту один из авторов был вынужден проглотить ехидное замечание от зарубежного коллеги, знакомого с «дорожными нравами» России: «У вас в стране второй помощник районного прокурора имеет более высокий Right-of-Way, чем король Швеции и канцлер Германии вмести взятые!»