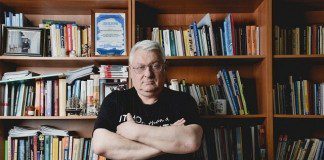Город как пространство современности: Экономическая, социальная и культурная повседневность постфордистского города.
Бондаренко С.В., доктор социологических наук, Ростов-на-Дону
Одним из наиболее важных новых приложений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является «электронное правительство», являющееся частью формирующегося «общества знаний» и «электронного государства». Во всем мире главная идея модернизации взаимодействий власти и общества – использование компьютерных технологий для повышения качества обслуживания и снижение затрат на функционирование бюрократии.
На практике эта идея реализуется относительно редко в силу многочисленных препятствий проведению реформ со стороны чиновничества, а также по причинам недостаточной научной проработанности направлений реформирования, позволяющих снизить затраты на содержание госаппарата. Далее представим контуры разработанной автором модели повышения экономической эффективности функционирования организационных структур бюрократии в условиях становления «электронного государства».
Но для начала хотя бы кратко остановимся на степени разработанности проблематики. В условиях фактического отсутствия общей теории «электронного государства» чаще всего исследователи речь ведут речь об «электронном правительстве» (англ. — e-government), причем большинство публикаций ориентировано на позитивистский подход с приматом идеологии технологического детерминизма. В таких условиях упускается из виду, что на самом деле речь должна идти не столько о компьютерных технологиях, сколько о трансформации разработанной Максом Вебером модели бюрократии с учетом постсовременных реалий.
Несмотря на позитивистскую мифологию, «электронное государство» на практике не является синонимом экономического развития как и постоянно растущего социального благосостояния, экономии бюджетных средств, а также прозрачного для социума и при этом эффективного правительства. Новые социально-политические технологии — это не происходящая на наших глазах революция в управлении государством, а эволюция бюрократии, подразумевающая тихую борьбу сторонников инноваций с консервативным мышлением большей части чиновничества. В процессе противостояния неизбежны бессмысленные бюджетные траты, а также системные риски, как финансовые, так и политические.
Если в западных демократиях в рамках модели «нового публичного менеджмента» [1,2,3] накоплен определенный опыт реформирования, то в транзитивных государствах попытки внедрения базовых принципов менеджеризма осуществлялись без какого-либо осмысления. Не случайно во всем мире только 15% проектов «электронного правительства» оказывается успешными и новации характерны для тех стран, где внедрение новых технологий напрямую увязывается с процессами реформирования бюрократии.
Поскольку власть предпочитает не афишировать истинные причины системных сбоев компьютеризации своих отношений с обществом, понимание онтологических причин становится возможным с использованием научных наработок в области организационного управления и информационных систем. В частности, с использованием методологии так называемых «критических факторов успеха» реализации масштабных проектов.
Словосочетание «Critical Success Factors» было введено в научный оборот Джоном Рокартом [4], подчеркивавшим его важность для развития науки управления. Под этим достаточно размытым родовым понятием понимаются события, обстоятельства, условия или действия, которые требуют специального внимания управленцев из-за их значения для успешности реализации проекта в целом.
Соответствующие исследования проводились в основном исходя из интересов бизнеса, и мы всего лишь упомянем точку пересечения «критических факторов успеха» инновационного развития коммерческих структур и структур публичной власти. Общим является необходимость на проектном уровне осуществлять управление происходящими в организации изменениями [5]. Различий же гораздо больше, основное из них в принципиальных подходах к использованию ресурсов. Если государство ориентировано на политические приоритеты, то бизнес на деловые потребности.
Основной вывод из сказанного состоит в необходимости для политиков четко обозначать указанные приоритеты до начала проектных разработок систем «электронного государства», чтобы менеджеры проектов могли уже на первом этапе определиться с путями достижения приоритетов. В настоящее в науке отсутствует согласованная точка зрения о перечне детерминант успеха проектов «электронного государства». На наш взгляд проблема в принципиальном отсутствии унификации, что обусловлено спецификой политических, социальных и иных особенностей национальных систем государственного управления.
Распространение в обществе информационных технологий дает надежду, что и правительство может измениться в интересах граждан. При этом приоритетами модернизации должны выступать: уменьшение сложности и повышение эффективности функционирования бюрократической машины государства, ориентация деятельности чиновников на рост экономики, сокращение времени предоставления услуг, а также расширение возможностей для предприятий и граждан по доступу к общественно значимым сведениям.
Говоря иными словами речь идет о повышении рентабельности государства, в котором увеличивающееся число услуг сопровождается снижением затрат на бюрократию. Для этого необходима разработка новой философии государственного и муниципального управления, в рамках государственные структуры ориентируются на потребности граждан, а не на примат интересов поствеберовской бюрократии. Предлагаемая нами модель включает следующие направления реформирования:
— оптимизация организационной структуры за счет уменьшения уровней принятия решений;
— осуществление ускоренной автоматизации информационных процессов;
— переосмысление содержания «основных компетенций» чиновников в сфере использования информационных технологий.
Конкретизируем смысловое наполнение базовых элементов модели и начнем с необходимости изменений в организационной структуре, направленных на уменьшение уровней принятия решений. О необходимости реструктурировать архаичные бюрократические процедуры с использованием возможностей компьютеризации речь ведут практически во всех странах [6]. Передовой опыт внедрения технологий «электронного правительства доказывает реальность существенных изменений бюрократических формальностей. Например, в Австралии время, необходимое для регистрации нового бизнеса было сокращено с 15 дней до 15 минут [7]. На наш взгляд, методология оптимизации организационной структуры должна опираться на переформатирование информационных потоков.
Речь идет о разработке и принятию комплекса мер по ускорению потоков информации в пределах бюрократических структур с созданием системы стимулов по ее использованию. На протяжении столетий в государственных структурах не было принято подсчитывать стоимость обработки информационных потоков. На практике практически любые сведения являются дорогостоящими, поскольку их не только нужно добыть, систематизировать и передать по инстанциям. В условиях современного общества, где время действительно синоним денег, непозволительная роскошь продолжение воспроизводства экономически архаичных рутин государственных структур.
Движение информации через иерархию не только замедляет потоки, но и сопровождается рисками искажения смыслов и фактов в процессе передачи с одного уровня на другой. Каждый уровень в иерархии имеет собственные бюрократические интересы и поэтому ментально влияет на смысловое наполнение потоков. Все это осуществляется латентно, однако сама факт замедления продвижения информации очевиден для потребителей государственных услуг. Высший же слой элиты вынужден на регулярной основе публично сетовать на неполноту и искажение сведений о процессах в экономике и обществе.
Проблема назрела, вопрос как ее практически разрешить. В условиях тотальной бюрократизации сама идея оптимизации организационной структуры в процессе формирования «электронного государства» включает риски, как временной потери управляемости, так и сопротивления части чиновничества новациям. Реформаторы должны учитывать: речь идет не о реформах ради реформ или же сокращения расходов за счет уменьшения избыточных звеньев управленческой цепочки, а о практических шагах по решению сверхзадачи создания организации, которая может оперативно реагировать на события перманентно трансформирующей постсовременной экономической, социальной и политической реальности.
На практике проблема упирается в когнитивные дисфункции: высокоуровневые инициаторы реформирования испытывают нехватку детальных знаний повседневности функционирования бюрократической машины, в то время как занятые в фактических действиях чиновники погружены в текучку и не мотивированы размышлять о выборе оптимальных путей оптимизации организационной структуры. Как показывает зарубежный опыт, при наличии политической воли упомянутые проблемы находят решение. При этом критические факторы успеха подразумевают не только необходимость управления организационными изменениями, но и подключение к процессам реформ активной части общества и ресурсов повышения производительности труда за счет использования компьютерных технологий.
Осуществление автоматизации информационных процессов сегодня часто трактуется исключительно как объединение компьютеров в сети, что не означает автоматического ускорения информационных потоков и гарантий доставки сведений в правильное место, в нужное время и в правильном формате электронных данных. Общеизвестно постоянное нарастание объемов неструктурированных («сырых») сведений, ведущих к информационной «перегрузке» и невозможности выявления критически важной информации, не говоря уже об анализе тенденций происходящего.
В таких условиях без перехода к иной парадигме пользования техническими системами не имеет смысла вести речь об экономии бюджетных средств и решения недавно актуализировавшейся проблемы контрпроизводительности рутинных компьютерных технологий, когда сложнейшие устройства используются в качестве аналогов пишущих машинок. За рубежом в качестве ключа решения упомянутых диалектических противоречий используется трудно переводимые на русский язык англоязычные термины «informating» или «digitization».
В современных системах, информация собирается и обрабатывается автоматически. Автоматизация может быть применена к сбору данных, передаче, обработке и представлению сведений в структурированном виде, позволяющем принимать управленческие и политические решения.
При этом на первый взгляд очевидность прагматизма сбора данных для конкретной цели на практике оборачивается многочисленными побочными эффектами и возможностями осуществления не декларируемых источнику информирования целей. В качестве иллюстрации приведем использование штриховых кодов в торговле. На кассе происходит считывание сведений для расчета стоимости покупки, эти сведения передаются в систему и используются в дальнейшем для решения различных задач: статистических, бухгалтерских, логистических, автоматизации пополнения складских запасов и т. п. Кроме того получаемые данные важны для выявления предпочтений потребителей, что чрезвычайно важно для осуществления эффективного менеджмента.
Такие системы стали появляться и в государственных структурах, в частности для автоматической обработки данных в соответствии с выбранными алгоритмам. К примеру, Федеральная налоговая служба России в 2012 году начала эксплуатацию автоматизированной системы выявления организаций, длительное время не сдающих отчетность, с последующим исключением их из реестра юридических лиц. Подобные системы решают проблемы «информационной перегрузки» сотрудников большими объемами рутинных сведений, позволяя сосредоточиться на том, что имеет аналитическое значение.
Отдавая рутины на откуп машинам, человек сосредотачивается на принятии решений требующих интеллектуальных усилий. Поэтому алгоритмы обработки данных могут ориентироваться на выявление признаков ситуаций действительно требующих управленческого вмешательства. Тем самым достигается повышение производительности труда госслужащих и экономия бюджетных средств на сокращении не требующих высокой квалификации рабочих мест. Немаловажным становится и рост объективности циркулирующих по информационным системам данных, а также их предоставление в соответствии с потребностями групп потребителей.
Формирующийся постфордистский дискурс в функционировании бюрократии подразумевает кардинальный пересмотр организационных отношений. Если же автоматизированная система плохо подходит для рабочих методов организации, необходимо либо изменить технические требования к системе, либо перепроектировать организационные рутины, чтобы они были союзниками автоматизации управления.
Без упорядочивания информационных потоков, об «информационном обществе» нельзя вести речь. На начальном этапе организационных изменений предстоит огромная работа по приведению разрозненной информации к единому стандарту. Практически во всех государствах вопросы межведомственных взаимодействий и технической стандартизации стоят весьма остро.
Объективные реалии развития цивилизации свидетельствуют о постоянном росте нуждающихся в анализе неструктурированных сведений. К примеру, развитие систем размещаемых на транспортных средствах автоматических передатчиков сведений о местоположении (с использованием возможностей систем геопозиционирования GPS, ГЛОНАСС и др.) требуют не только центральных баз данных, но и новых навыков, как у чиновников, так и у иных заинтересованных лиц. Сведения должны объединяться в формы, полезные для планирования логистики, разумеется, когда речь идет об идентифицируемых единицах анализа, с соответствующими предосторожностями обеспечения информационной безопасности.
Мы привели пример транспорта, но системы автоматизированного мониторинга на основе использования различных датчиков уже используются на нефтепроводах, газовых сетях, в обеспечении безопасности объектов. И в каждом случае потоки данных настолько интенсивны, что их анализ становится недоступным отдельно взятому оператору, а значит, требуются автоматизированные аналитические системы, в том числе и для органов государственного и муниципального управления.
На онтологическом уровне мы уже наблюдаем зачатки формирующегося общества вездесущего компьютинга. Столь резкий переход к реалиям постфордизма, в управлении актуализирует проблему переосмысления содержания «основных компетенций» чиновников, без решения которой ни о каком повышении эффективности труда не может идти речь.
Стоит вопрос как о создании системы постоянно обновляемых источников системы знаний о способах повышения эффективности государства, так и о формировании корпоративной культуры, ориентированной на освобождение от излишних функций и примат меритократизма. Власть должна уходить от роли наблюдателя с функциями нормативного регулятора за развитием территорий и снижать барьеры в функционировании рынков через организацию обратной связи со всеми заинтересованными акторами.
Поиск ответов на вызовы постсовременности упростился с появлением информационных технологий, а также снижения стоимости их приобретения и владения. Соответственно, новые компетенции чиновников должны ориентироваться на знания, дающие стратегические преимущества в развитии общества. Экономические затраты в таких условиях становятся меньше расходов на воспроизводство паттернов неэффективной и при этом отторгающей прогресс бюрократической машины.
Но сама по себе информационные технологии не обеспечат рост благосостояния без достаточного уровня социального доверия общества к проводимым в государственной системе преобразованиям. Поэтому проектирование автоматизированных систем и интеллектуальных рабочих мест должно осуществляться как с учетом общественного мнения, так и в контексте развития иных социально-технических подсистем «электронного государства». В противном случае экономия бюджетных средств так и останется на бумаге, а неэффективность функционирования бюрократии только увеличится, превратившись в угрозу национальной безопасности.
Постфордизм в посвеберовском государстве отражает тренды децентрализации, в рамках которой важная для функционирования общества информация в потоках перемещается не только в вертикальных каналах иерархии, но и горизонтально, способствуя проявлением инициативы независимо от уровня возникновения требующих решения проблем. В этих условиях принятие такой системы не может рассматриваться как исключительно техническая проблема. В большей мере реформирование приобретает «политическое» измерение, а достижение консенсуса требует понимание необходимости перемен, как со стороны властных структур, так и общества, ставящего на повестку дня вопрос о назревших новациях.
Было бы наивным считать, что общественный договор в этой его части станет результатом стремления сторон к модернизации. Без политической воли невозможно стимулировать появление на различных уровнях государственной машины лидеров, способных организовать процессы качественного организационного обновления и повлиять на трансформацию ментальности чиновников.
Автоматизация управленческих процессов способствует переходу на принципиально иной уровень личностного развития сотрудников госаппарата. Далеко не все из них готовы как к изменению консервативной когнитивной ориентации, так и к переориентации своей деятельности на интересы гражданина и общества в целом. Такой дискурс является важным препятствием для «критических факторов успеха» реализации концепции «электронного государства».
Выход из клубка противоречий, на наш взгляд, может быть только один – давление общества и инновационно ориентированных политических лидеров на бюрократию с созданием системы стимулов к преобразованиям, без которых страна продолжит скатываться в технологическом и социальном развитии. Вопрос – осознает ли большая часть общества свой стратегический интерес в преобразованиях, технологическая основа для осуществления которых уже стала реальностью…
Библиография
1. Pollitt C. Managerialism and the Public Services: Cuts or Cultural Change in the 1990s. Oxford: Blackwell, 1993.
2. Pollit C. The essential public manager. Maidenhead: Open University Press, 2003.
3. Pollitt C., Bouckaert G. Public Management Reform: A Comparative Analysis. Oxford: Oxford University Press, 2004.
4. Rockart J. A New Approach To Defining The Chief Executive’s Information Needs. Cambridge: Center for Information Systems Research, Sloan School of Management Massachusetts Institute of Technology, 1978.
5. Reffat R. Developing a successful e-Government / In: Proceedings of the Symposium on e-Government: Opportunities and Challenge. Muscat Municipality, Oman, 2003.
6. Moon M.J. The evolution of e-government among municipalities: Rhetoric or reality? // Public Administration Review, 2002, vol. 62, № 4. РР. 424-433.
7. E-government for Development // United Nations Department for Economic and Social Affairs (UNDESA). Newsletter of the division fro public administration and development management, 2003, issue 1, № 106.
Выходные данные публикации в печатном виде: Бондаренко С.В. Постфордистский дискурс экономической эффективности поствеберовской бюрократии «электронного государства» // Город как пространство современности: Экономическая, социальная и культурная повседневность постфордистского города. — Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного искусства, 2012. С. 6 -14.