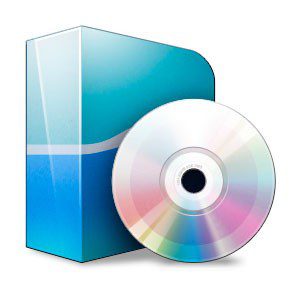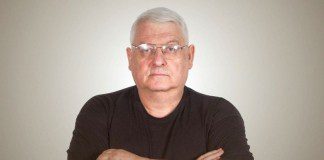Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин по итогам обсуждения «мер, направленных на повышение конкурентоспособности отечественного программного обеспечения в условиях импортозамещения» 25 марта заявил, что закон о поддержке российских производителей софта будет разработан, причём быстро.
Хронологию этого удивительного события надо начинать года с 90-го, не позже. Квалифицированных инженеров в стране было много, 3% положенных по статистике потенциальных бизнесменов среди них не могли не найтись, инвестиции для программирования не требовались, рынок разрешили – вот отечественная софтверная индустрия и самозародилась. В дальнейшем всё, что с ней случилось хорошего (тут есть что перечислить – мы в числе очень немногих стран, которые на внутреннем рынке одновременно имеют собственные конкурентоспособные ERP-системы, поисковую машину и системы IT-безопасности), произошло не благодаря, а вопреки тому, что делало государство.
Сказать, что государство не обращало на программистов внимания, или вредило нарочно, нельзя. Оно пыталось. Последний раз 10 лет назад, после того, как Путин посетил Бангалор, и, впечатлённый увиденным, инициировал закон об особых экономических зонах – впоследствии разработанный Минэкономразвития так, чтобы принести преференции всем, кроме программистов.
В дальнейшем об отрасли в меру сил заботилось разве что профильное министерство, да и то эпизодически. Ни правительство, ни законодатель эту мелкую индустрию либо не видели вовсе (всего-то миллиард долларов в год на внутреннем рынке, и столько же экспорт заказного софта), либо не видели разницы между программистами и нефтяниками, затачивая налоги и правила хозяйствования, понятно, под последних.
И тут специальный закон в поддержу. Пусть не написан, только обещан, но всё равно удивительно.
Эскизный проект
Цель обещанного Левиным закона в том, чтобы стимулировать закупки отечественного софта за бюджетные средства. Запрещать госорганам импортное ПО никто не будет, но их обяжут мотивировать выбор, если у импортного софта есть отечественный аналог («мягкое решение», против которого даже ВТО протестовать не станет). Выяснить, есть такой аналог или нет, можно будет, сверившись с реестром российских программных продуктов.
Таков эскиз законодательного акта. Внешний вид будущего закона, если пользоваться автомобильной аналогией, описан в чрезвычайно общем виде: четыре колеса, из них два управляемых, ведущих тоже не меньше двух, а ещё транспортное средство должно перемещать пассажиров и груз из точки А в точку Б.
Мероприятие в Госдуме прошло под диктовку программистов, в точности так, как это было в лихие 90-е при первом обсуждении будущего программного продукта, скажем, программки решения транспортной задачи на предмет составления расписания движения автобусов: заказчик сидит и обалдело слушает разработчиков, а понимание к нему приходит несколько позже (хорошо, если не слишком поздно).
Отрасль, надо отдать ей должное, говорила убедительно.
В России рынок софта на 75% принадлежит иностранным компаниям. О равноправной конкуренции с ними российские компании не могут и мечтать – иностранцы способны демпинговать годами ради того, чтобы завоевать господство и приучить к себе пользователя. По поводу идеи создания реестра только у Минэкономразвития «категорично отрицательная позиция», и это серьёзная проблема (Евгения Василенко, АРПП «Отечественный софт»).
Софта в стране до кризиса продавалось на 4 миллиарда, и лишь один миллиард из четырёх оставался в России. Ситуацию можно сделать обратной — три нам, один им. Речь о 50-60 тысячах рабочих мест, которые будут «либо здесь, либо там» (Кирилл Варламов, ФРИИ).
Борис Нуралиев («1С») за закон, поскольку он «сильнее постановления». Например, отсылка к 105 главе Налогового кодекса, определяющей, что отечественное, а что нет – не вариант. Поскольку Налоговый кодекс может измениться, лучше эту норму прямо записать в закон.
Сергей Рыжиков («1С-Битрикс») предложил ввести количественную оценку результата, к которому мы стремимся: например, рассчитать долю российского софта в госзакупках, и ставить перед профильным министерством задачу за год увеличить её на 10%. Считать эту долю надо в деньгах, другой измеритель не придумаешь.
Выступление начальника транспортного цеха
CIO государственных организаций, т.е. тех, кому ездить на эскизном автомобиле, эксплуатируя подвергнутый преференциям софт из реестра отечественных программных продуктов, представлял единственно Сергей Емельченков из «Почты России», заместитель гендиректора по IT. Вот что он сказал.
Традиционное деление софта на прикладной и платформенный обнаруживает не только хорошо известную вещь, а именно, что своего платформенного софта – ни ОС, ни СУБД — у нас нет. Другая, менее очевидная неприятность – а где, собственно, отечественный прикладной софт? Он есть, но его не видно. Как узнать если не о внедрениях и характеристиках, то хотя бы о его наличии? Ответ «из реестра узнаешь» не вполне удовлетворителен.
Gartner не поможет заказчику выбрать отечественный программный продукт, поэтому реестра отечественного софта мало, к нему нужна своя аналитическая служба, способная ранжировать софт по степени пригодности.
И ещё – не худо было бы иметь тестовую лабораторию, где производители софта и CIO могли вести предметные беседы об импортозамещении. (У Microsoft такая лаборатория в Москве, между прочим, есть, и давно — ред.).
Госзаказчик в обороне
Что такое «российский программный продукт», какие реквизиты должны присутствовать в описании «реестровых» программных продуктов, какова процедура внесения продукта в реестр и исключения из реестра – об этом речи не было. Государственные люди приняли идею написать закон в сущности без возражений.
Возражения, однако, есть, хотя и не были высказаны.
Двумя днями ранее на встрече представителей отрасли с главой Минкомсвязи Николаем Никифоровым позицию Минэкономразвития, не поддержавшего подготовленное Минкомсвязью постановление (по смыслу оно похоже на закон, обещанный Левиным), пояснила «Экспертному центру электронного государства» помощник министра пресс-секретарь Елена Лашкина: «Проект постановления правительства Российской Федерации, касающийся закупок программного обеспечения, в настоящее время рассматривается. Позиция по данному проекту еще не сформирована. Необходимо проработать его не только с позиции индустрии, но и с позиции заказчиков, обеспечить, чтобы предусмотренные в нем нормы были реализуемы на практике, соответствовали требованиям закона. Сейчас прорабатываются различные механизмы поддержки отечественных производителей, в том числе в высокотехнологичной сфере».
На обсуждении в Госдуме представитель Минкомсвязи, руководитель департамента министерства Евгений Ковнир сказал, что «многое можно решить в рамках постановления, от Госдумы хотелось бы получить поддержку изменений в закон 223-ФЗ (чтобы обеспечить российским софтверным компаниям преференции при закупках ПО не только госорганами, но и государственными компаниями – ред.), это позволило бы оперативно получить преференции для отечественных производителей ПО, и спасибо АРПП за уже сделанное для подготовки реестра отечественного ПО». Саму идею принятия закона не критиковал.
Евгению Василенко поддержал Илья Массух (Фонд информационной демократии): постановлением правительства проблему не охватить, закон предпочтительнее. Не следует забывать Белоруссию, Казахстан, Армению, Киргизию, раз мы стремимся к созданию с ними общих рынков. Сделать закон можно быстро, так, чтобы с 2016 года он уже работал.
Павел Пугачёв (администрация президента) оказался единственным, кто попытался выяснить, как будет ездить эскизный автомобиль. Он обратил внимание на следующее.
В реестре отечественных программных продуктов должны быть критерии для оценки софта. Реестр не может быть перечнем рекомендованных свыше продуктов, это инструмент для выбора решения, которое примет СIO.
Допустим, реестр готов. А механизм его использования? Вот не придёт, например, отечественный поставщик на конкурс со своим занесённым в реестр продуктом, и как в этом случае быть заказчику?
Важнейший вопрос: умеем ли мы определять страну происхождения софта? Индустрия предлагает для этого главным критерием наличие исключительных прав на интеллектуальную собственность у российской компании – а хватит ли этого для технологической независимости?
Например, купила наша компания у украинской права на программный продукт, продукт этот попал в реестр, а через месяц разработчик отказался его сопровождать – как быть в этом случае с технологической независимостью? Право на интеллектуальную собственность её не обеспечит.
Далее, эксплуатация программных продуктов из облака – как закон должен регулировать использование госорганами софта по модели SaaS? А заказная разработка ПО – если софт принадлежит российской компании, но разработан на заказ в Индии, он в этом случае отечественный?
Ответы на эти вопросы, скорее всего, есть. Есть и другие, не менее сложные вопросы. Найти на них ответы – серьёзная работа, она законодателю только предстоит.
Кирилл Варламов, взявший слово следом за Павлом Пугачёвым, очевидно, понял тяжесть проблем, стоящих перед законодателем в случае, если закон должен будет не просто поддерживать отечественного производителя, а работать на импортозамещение софта (если понимать термин «импортозамещение» как технологическую независимость страны). Он заявил, что главная цель законопроекта — экономическая, и состоит она именно в поддержке отечественной софтверной индустрии.
Едва ли эта цель (безусловно важная) достаточна сегодня, когда международная обстановка вокруг России существенно отличается от той, что имела место 10 лет назад.
Подробнее о том, какой закон имеет смысл разрабатывать, и о его принципиально важных положениях «Экспертный центр электронного государства» вскоре расскажет в отдельном материале.