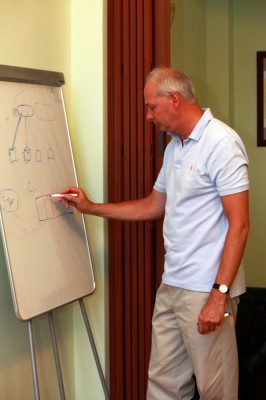Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин дал интервью корреспонденту D-Russia.ru.
— Впечатление, сформированное годами наблюдения за представителями нашей власти и событиями последних месяцев, я имею в виду регулирование медиасреды, таково: власть в стране не понимает институциональное значение СМИ, не понимает, что честные СМИ как контур обратной связи с обществом самой же власти и нужны, без этого государство инвалид, как человек, не ощущающий боли. Не согласны?
— Во-первых, никто в стране не ставит перед собой задачу зарегулировать все СМИ, потому что это невозможно. У нас количество средств массовой информации исчисляется тысячами. Соответственно, количество способных регуляторов, которые бы регулировали каждое СМИ в ручном режиме, оно тоже должно исчисляться тысячами. Таких регуляторов нет. Да и не нужны. Потому что совершенно понятно, и власть в этом отдает себе отчет, что если зарегулировать деятельность средств массовой информации, то они станут неинтересны публике, и публика пойдет искать другой источник. Проблем с источником информации нет. Мы живем в цифровую эпоху, когда эти источники плодятся и множатся в невероятном количестве.
Контур обратной связи с обществом у власти есть, не только через СМИ, хотя и СМИ тоже. На примере нашего министерства могу сказать, что количество каналов обратной связи очень велико. Например, министр Twitter использует. Даже по своей работе вижу, что на протяжении дня ко мне от него приходит достаточно большое количество вопросов, которые «прилетели» через твиты, причем от граждан. В большинстве случаев это информативно. Я и социальные сети для этого использую. Кроме этого, на сайт министерства приходит большое количество граждан, которые пишут по указанному там электронному адресу.
Электронных обращений, кстати, все больше. И мы должны отвечать, рассматривать любое обращение, даже если оно анонимное, «по Интернету пришло».
Это обратная связь первого уровня. Второй уровень – обратная связь с индустрией. Когда мы принимаем то или иное решение, надо понимать, а как оно сказывается на бизнесе, на участниках рынка. Тут связи лучше систематизированы – понятно, кто участники диалога. Но ни одного решения мы не принимаем ни по связи, ни по почте, ни по медийке, ни по Интернету, ни по хостерам, ни по кому-то еще, без проведения достаточно подробных консультаций с представителями индустрии.
— А где же обывателю новости сейчас читать? Скажем, качество контента на том месте, где раньше было РИА Новости, заметно снизилось, это не единственный пример.
— Не испытываю проблемы с чтением новостей. Уже много лет использую агрегаторы, и вижу с их помощью новостную картину дня. РИА особо много не читал. В этом отношении мне больше «Газета» все-таки давала. Хотя новостная колонка той же самой «Газеты.Ru» — тоже агрегация новостей.
— Регулирование Интернета как медийной среды – как по-вашему, тут действует законодатель, хорошо ли, плохо ли?
— Среди самих законодателей в ходу термин, который я впервые услышал от депутата Роберта Шлегеля: ситуативное нормотворчество.
Есть два подхода в отношении нормотворческой деятельности. Первый, и я его разделяю: если можно обойтись без принятия какого-то законодательного акта, то его принимать не надо. Чем меньше законов и нормативки, тем эффективней, проще работает система. Есть другой подход: на все написать инструкцию, норму и положение. Но это перегружает систему. Потому что и участники рынка, и участники процесса, граждане уже тонут в вале регулятивных воздействий. Причем воздействий зачастую еще и противоречивых.
Например, борьба с пиратством. Представители правообладателей и интернет-индустрии долго сидели и обсуждали: а вот такой закон, а вот такую норму принять, а вот давайте еще здесь что-нибудь запишем. Мы их собрали и задали вопрос: ребята, а вы это зачем? Они говорят: бизнес страдает. А не пробовали без закона договориться?
Сегодня многие и правообладатели, и участники интернет-индустрии в состоянии договориться, и понимают, что сделать. Количество пиратских сайтов меньше ста. Для того, чтобы их забабахать, достаточно доброй воли индустрии, без всякого закона, и даже судебного решения.
Но у нас же сами участники рынка зачастую начинают инициировать законотворческий процесс. Они до этого несколько лет бегали и всех теребили, а маховик-то работает, пошла нормотворческая история. Они сейчас договорятся, а все равно уже запущены механизмы принятия законов. Хотя, в общем, практика показала, что можно и без них.
— Может, и блогеров не надо было трогать? Пусть бы себе…
— Мы же исполнительная власть. Мы выполняем то, что принимает власть законодательная.
— Так я о ней и спрашиваю.
— Ну, а что вы спрашиваете? У нас законодательная власть спрашивала нашу точку зрения – мы ее сказали. Дальше законодатель может с точкой зрения правительства согласиться, может не согласиться.
— А какая у правительства была точка зрения?
— Мы считали, что блогеров трогать не надо. Написали заключение, суть которого сводилась к следующему: приравнивание блогеров к СМИ дискредитирует журналистику как таковую. Мы исходили из того, что журналистика – это профессионализм, это ответственность. И, в значительной степени, это была линия, по которой мы никак не могли договориться со значительной частью участников Европарламента, Евросоюза, которые как раз настаивали на том, что блогера нужно приравнять к журналисту.
Нельзя графоманов приравнивать к профессионалам. И главная аргументация с нашей стороны заключалась в том, что это приравнивание, по сути дела, дискредитирует профессиональную журналистику. Потому что теперь любой графоман, набрав энное количество фоловеров, извините за иностранное слово, может мнить себя черт-те кем. А затем он будет требовать, чтобы на него распространялись те же права, что и на журналистов.
В значительном количестве стран что выдача сертификата журналиста, что лицензии СМИ – дело добровольное. Сам идешь и просишь лицензировать тебя, потому что лицензия дает признание твоего профессионализма, больший уровень доверия к тому, что ты пишешь, возможность работать с рекламодателями. Нет лицензии – не можешь привлекать рекламу как СМИ. Куда более эффективный способ.
— У нас по факту так и есть. Многие читаемые онлайн-ресурсы не лицензированы как СМИ.
— Ну, да. И дальше у нас происходит опять-таки разрушение единого юридического поля. Потому что блогер обязан получить лицензию, а информационный ресурс не обязан регистрироваться в качестве средства массовой информации.
Еще возникает вопрос о юрисдикции. Мы исходим из того, что развитие Интернета лучше всего происходит тогда, когда отечественные информационные ресурсы стремятся находиться в отечественной юрисдикции. Бизнес при этом произрастает. Если поставить колоссальное количество запретительных барьеров и запустить ограничивающие процедуры – ну, перерегистрируются, будут находиться в другой юрисдикции, в другом домене. Хостеры пострадают, индустрию потеряем. Интернет-бизнес – он же гибкий и подвижный. IT-индустрия легко перетекает из одного места в другое. Чрезмерное запугивание индустрии приведет к тому, что оно просто возьмет и перетечёт. А там много денег.
— Цифровое ТВ – это ведь тоже ваша зона ответственности?
— Цифровое телевидение дополнительных денег не генерит, оно их больше тратит пока. Эти траты связаны с необходимостью удержания зрителя, который хочет все более и более качественную картинку. Экраны растут, требования тоже прирастают. Поэтому есть два направления.
Первое касается изменения качества картинки цифрового эфирного ТВ. И второе – это, наверное, самая важная задача, которая стоит перед телевидением, – преодоление информационного неравенства. И до цифрового телевидения у нас были города, где люди совершенно спокойно при помощи кабеля принимали сто и более каналов. А было значительное количество населенных пунктов, где принималось три канала в плохом качестве. Как раз задача цифрового телевидения заключается в том, чтобы 97% населения страны дать возможность принимать 20 каналов в более высоком качестве, чем аналоговое, в HD. Это, кстати, заодно диверсифицирует источники информации.
— Сколько еще до 97% осталось?
— Сейчас 70% населения имеет доступ к 20, а более 80% – к 10 каналам. Это первый мультиплекс.
У нас нет задачи охватить всю территорию. У нас есть задача охватить подавляющее большинство населения. Мы понимаем, что будут регионы, два или три процента населения не будут охвачены программой цифрового телевидения. Экономика очень простая: можно пытаться поставить перед собой задачу охватить сто процентов населения через цифру, а можно включить альтернативные возможности, и посмотреть, каким образом достать остальные три процента не через цифру. Каждому из граждан, попавших в эти три процента, которые не будут охвачены цифровым телевидением, проще поставить «тарелку», и это будет в пять-десять раз, в зависимости от региона, дешевле, чем тащить вышки и гнать сплошной телевизионный сигнал. На Севере между населенными пунктами, где проживают 20-30 человек и колоссальные расстояния, этот вопрос надо решать точечно.
Сейчас могут быть некоторые изменения в графике и последовательности строительства второго мультиплекса. Происходит падение рекламного рынка, и совершенно понятно, что в 2015 году навряд ли каналы, которые входят в состав участников второго мультиплекса, будут в состоянии платить миллиард рублей за распространение сигнала в цифре. Притом, что не отменяется распространение аналога.
— Из-за парка старых приемников?
— В том числе. Вообще, любой переход на цифровое телевидение во всех странах, даже с куда меньшим населением, чем в России, всегда сопровождался достаточно протяженным периодом параллельного вещания.
Если говорить про приемники, то у нас сегодня в стране сто с лишним миллионов телевизионных приемников, из которых только 13,5 миллиона в состоянии принимать DVB-T2. В среднем 9-10 миллионов новых телевизоров в год покупают, но старые при этом не выбрасывают.
Соответственно, к 2017 году мы точно будем иметь следующую ситуацию: порядка 70 миллионов телевизионных приемников, которые принимают DVB-T2, что, в принципе, обеспечивает практически все домохозяйства возможностью приема цифрового телевидения. Но так как старые приемники никуда не денутся, общий парк телевизионных приемников будет 160-170 миллионов, и половина будет принимать цифру, а половина будет продолжать принимать аналог.
Уже не говоря о том, что есть вторая причина, по которой нельзя отключать аналог. Это 500 с лишним региональных телекомпаний, для которых нет просто сегодня частот, позволяющих им перейти в цифру. В подавляющем большинстве стран диапазон, пригодный для цифрового ТВ, полностью для нужд телевидения и используется. У нас же значительную часть диапазона используют военные.
— А в Крыму?
— А в Крыму значительно лучше. На Украине был другой подход, там цифровое эфирное телевидение – социальный проект, направленный прежде всего на жителей небольших населенных пунктов, а цифровое ТВ в целом, кабельное, прежде всего – проект коммерческий, получатель сигнала платит за него абонентскую плату, а сам сигнал кодируется. Поэтому в Крыму на момент воссоединения с Россией существовало четыре телевизионных цифровых мультиплекса по восемь каналов в каждом, работающих в стандарте DVB-T2.
Когда они вошли в состав России, мы убрали кодировку сигнала и убрали платность, потому что на них распространились российские правила. Но частоты-то уже есть. И поэтому ситуация с цифровым телевидением в Крыму значительно лучше, чем с цифровым телевидением в остальной части Российской Федерации.
— Министерство занимается пропагандой госуслуг в электронном виде?
— Были в свое время идеи в отношении того, чтобы заказать рекламные кампании и заплатить, выделить бюджеты на это дело. Наша позиция заключается в том, что госуслуги – это вещь, интересная населению, и нет никакого смысла тратить бюджетные деньги на то, что само по себе представляет информационный интерес. Поэтому о госуслугах, собственно говоря, должны рассказывать те люди и те организации, которые занимаются их предоставлением, местные органы власти в том числе.
— Вы лично ставите перед собой цели, которые должны быть достигнуты во время работы в нынешнем качестве?
— Конечно. Цель первая – завершить переход на цифровое телевидение, по крайней мере, завершить создание инфраструктуры цифрового телевидения и внедрить в сознание прежде всего региональных телевизионных компаний знания о новых моделях передачи телевизионного сигнала и телевизионного контента. Потому что сегодня очень многие люди в регионах находятся в рамках старых клише. Они там по-прежнему ждут третьего мультиплекса. Они считают, что можно заставить, например, каналы, которые не попали в первый-второй мультиплекс, принудить к обязательному партнерству с регионалами.
Старая модель регионального телевидения строилась на так называемых партнерских программах: новости нескольких местных передач готовились силами местного канала, а остальной контент они брали у какого-то федерального канала. Сегодня эта модель не работает, потому что все федералы в кабеле, на спутнике и в цифре. Им не нужны региональные партнеры, им нужны региональные «плечи». А у регионального партнера возникает проблема, чем наполнять эфир.
Сегодня бессмысленно думать о том, каким образом будет распространяться телевизионный сигнал, какие возможности будут по распространению телевизионного сигнала через 3-4 года. Идет конвергенция ТВ с Интернетом и связью. Мы будем иметь абсолютно новую модель распространения сигнала.
Вторая задача, которую я перед собой ставлю – обеспечить бизнес-интересы владельцев интернет-площадок и правообладателей. Они должны перестать кошмарить друг друга и тягаться в том, кто какой закон напишет или торпедирует, а сесть и поделить рынок объемом несколько миллиардов долларов к вящему удовольствию друг друга.
Следующая задача – содействовать реформе подготовки кадров. У нас сегодня государство платит за образование, и совершенно не спрашивает с вузов за то, какого качества выпускники поставляются рынку. В этой связи мы достигли договоренности с РАЭК и с Ассоциацией теле- и кинопродюсеров о том, что они проведут аудит и рейтингование вузов, которые готовят специалистов для этих отраслей.
— Еще один рейтинг вузов.
— Не государственный. Это рейтинг со стороны потребителей. Они просто скажут, устраивают ли их учебные программы, берут ли они на работу к себе этих выпускников. Это – субъективный рейтинг работодателей. Мы его опубликуем. Думаю, он будет достаточно интересен Рособрнадзору и Министерству образования тоже.
Он должен быть интересен и руководителям вузов. Потому что для них это — обратная связь с действительностью. Например, когда мы говорим о кинообразовании, понимаем, что кинообразование и телеобразование – это одно и то же. Операторы, режиссеры-постановщики, сценаристы, осветители, звуковики, монтажники, спецэффекты – они все работают и в кино, а не только телесериалы и телевизионные передачи делают. Уже не говоря о том, что у нас то, что называется «большое кино», которым занимается Минкульт, это 200 часов в год, а телевизионные сериалы и телевизионные программы – это 3000 часов в год.
Ректоры вузов, которые готовят специалистов для кино- и телеиндустрии, они, знаю, к этому относятся без особого восторга. Некоторые говорят: нас и так проверяет и прокуратура, и Счетная палата, и прочее. Отвечаем: мы не проверяем, как вы тратите деньги, нам это вообще не интересно. Нам интересно только одно: кого получает индустрия. Рада она получаемому или нет.
— К журналистам это тоже относится?
— У нас есть и такая идея, оценки опять-таки со стороны потребителя. А не государственная проверка.
Что ещё? Медиаграмотность. Считаю, один из самых главных приоритетов. У нас население сегодня совершенно не готово жить в условиях колоссального разнообразия источников информации. Оно просто не понимает, чему можно верить, чему нет. Где верифицированный источник информации, где неверифицированный источник информации. Часто не сомневается в том, что читает, а надо сомневаться.
Собственно говоря, это вопрос сегодняшнего поведения человека. Чему учат любого редактора – проверь факты, сопоставь. А сегодня у нас обычный потребитель информации выступает в роли редактора. На него обрушивается колоссальное количество информации из самых разных источников. Мы должны сказать человеку: не верь одному источнику, посмотри другой.
В развитии медиаграмотности прежде всего заинтересованы традиционные СМИ. Ведь приучили же покупателя смотреть производителя и дату годности товара на этикетке. Что должен делать человек, когда он в Интернете сталкивается с какой-то информацией? Он должен посмотреть источник информации. Вот как этикетку. Заинтересованность СМИ тут в том, чтобы вызвать доверие к своей этикетке – они же верифицированные, у них реноме.
Курсы медиаграмотности разработаны уже в Высшей школе экономики и в Ростовском технологическом университете. Причем в Ростове медиаграмотность стали преподавать студентам технических вузов. Небольшой курс, буквально несколько часов. Но именно внедрение основ, чтобы люди просто понимали. И сейчас, когда мы проводили заседание коллегии, как раз одна из наших рекомендаций, поручений для региональных министров информации и связи заключалась в том, чтобы продумать внедрение основ медиаграмотности на региональном уровне.
— Хотите вытравить принцип «газеты врать не будут» из сознания обывателя?
— У нас значительное количество людей и так далеко не уверены в том, что газеты врать не будут. Тем более, что газеты очень долго для этого старались. У меня есть любимый пример, когда одна уважаемая федеральная газета, с хорошей историей и очень уважаемым главным редактором, умудрилась в коротком сообщении на девять строчек допустить семь фактических ошибок. Семь. При том, что материал написал корреспондент, который присутствовал на событии. Нет, я очень уважаю девушку-корреспондентку. Она не стала ни у кого списывать, она не полезла в Интернет, чтобы взять то, что написали другие. Она написала так, как она поняла. Не поняла ничего. Но после этого еще был редактор, который ее отредактировал. И который тоже не полез в Интернет, хотя бы посмотреть, о чем это. Ну, и, видимо, был выпускающий, уж не знаю, как там у Ремчукова устроено.
— Свежая депутатская инициатива – наследие советского кинематографа взять и поделить, т.е. объявить общественным достоянием, как она вам?
— Я её понимаю. Потому что в советское время не было продюсера, который снимал это на свои деньги и рисковал своими деньгами. Все снималось на бюджет, а бюджет принадлежал гражданам. Поэтому, по большому счету, то, что снято, оно снято на деньги граждан.
Сегодня права аккумулируются на продюсере. «Мосфильм» это все получил просто потому, что он это получил. По сути дела, такой кусок ренты от советского периода. Потом, у него много чего другого есть. У него и площадки, и павильоны, и студии.
— То есть поддерживаете.
— Понимаю логику депутатов. А поддерживаю или не поддерживаю, я, извините, прежде, чем приму решение о том, что поддерживать, проконсультируюсь с индустрией. В том числе с современными правообладателями и их юристами. И мы просчитаем, несет ли это решение риски для индустрии. У нас подход очень простой: как это на индустрии скажется.
— Какие-нибудь аналогии с защитой авторских прав в софтверной индустрии и в производстве развлекательного контента, произведения искусства, вы усматриваете? Опыт борьбы с компьютерным пиратством в нашей стране весьма положителен.
— Мне кажется, что сегодня и в отношении видеоконтента у нас тоже все более или менее ничего, стало работать. Потом, там распространения-то были другие, по софтам.
— Да, потоковое видео производителям софта не грозит.
— А здесь потоковое видео. Но количество пиратских сайтов, как я уже сказал, сегодня ограничено – сотня. Надо их грохнуть.
— Есть какие-нибудь различия в процессе борьбы с пиратами между иностранным правообладателем и нашим?
— Никаких. Права на территории РФ должны быть у какого-то агента иностранного производителя. Иностранная компания, которая сняла какой-то фильм, всегда имеет партнера в России, который является ее представителем здесь и правообладателем на российской территории.
— Возможно, некоторые телевизионные фильмы у нас «прокатывают» только пираты, а правообладателей никто в РФ не представляет.
— Для меня приоритетом является российский бизнес. А уж если компания какая-то заявила о том, что готова присоединиться к санкциям, а на следующий день приходит в министерство и спрашивает, как мы будем защищать ее права… Никак не будем.
— А что, уже и производители кино присоединились?
— Нет, я про софт. Если какие-то иностранные компании, производящие софт, присоединятся к санкциям против Российской Федерации, мы точно не будем стараться защищать их интересы на российском рынке. И с пониманием отнесемся к тому, что люди будут использовать «ломаные» версии программных продуктов.
— Послушайте, но это же…
— Значит, так. Если кто-то хочет дать мне по морде, я дам ему в морду, а не пойду в суд.
— Но ведь если производитель останется без государственной защиты от пиратов, это будет означать потерю рабочих мест для людей высокой квалификации, наших соотечественников.
— Мы надеемся, что производители софта к санкциям не присоединятся. Но даже заявляя о готовности присоединиться к санкциям, они должны просчитывать возможные риски в России.
— Мы не можем избирательно бороться с воровством одного софта и не бороться с воровством другого. Да это просто несправедливо.
— А к санкциям присоединяться справедливо?
— Став замминистра, исправили ли вы что-то что-нибудь такое, что вам мешало работать в индустрии СМИ?
— Когда работал в индустрии, не очень смотрел на то, что делает регулятор, знал, как сделать то, что хочу.
— В какой-нибудь из зарубежных стран регулятор в отношении медийной индустрии ведет себя так, как вам бы хотелось видеть это в России? Кто-то может служить примером?
— Бессмысленно пытаться переносить другой пример, потому что менталитет населения разный, рынок разный, участники рынка разные. Отношение к нормотворчеству и к нормативке разное. Брать сингапурский, китайский, европейский пример в Россию бессмысленно. Хотя бы потому, что там люди более дисциплинированы.